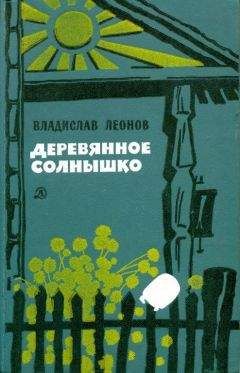Павлуня сквозь планки палисадника с опаской заглядывал во двор: нет ли кусачего кобеля. Сарай был, колодец стоял, скромно красовался еще какой-то хозяйственный сруб, а будки с дырой и оскаленной песьей мордой не имелось.
Павлуня ожидал, когда Трофим первым войдет в калитку, над которой висел почтовый ящик с замком и надписью для верности: «Петров».
— Иди, иди, — сказал Трофим, набрасывая на козла тяжелый плащ, который постоянно возил с собой в непогоду.
— А вы?
— Я к этому куркулю не ходок!
Павлуня нашарил меж планками задвижку, поковылял. Шапку он стащил с головы, полпути не дойдя до крыльца, а сапоги скоблил о рогожку минуты три, пока Трофим не крикнул: «Телись!» Парень постучал и вошел сперва в холодную терраску, потом, скинув у порога сапоги, ступил на кухню. Там было тепло и пахло обедом.
— Кто? — спросили из комнаты.
— Я.
— У двери постой — наследишь!
Павлуня увидел в кресле перед телевизором самого хозяина. Он сидел чистый, в валенках и вдумчиво смотрел кино про муравьев. Без своей грязной робы он казался не таким тощим.
Сбоку от хозяина примостился Женька с банкой варенья на коленях. Лопал, облизывая ложку, как Мальчиш-Плохиш. Павлуня даже улыбнулся, вспомнив мультик. Женька насупился.
Кино кончилось. Иван встал, подошел к Павлуне:
— Ну, где твоя бумажка липовая?
Парень вытащил приказ, но Ивану не отдал, дождался Модеста. Тот, увидев Павлуню, не обрадовался:
— Чего надо?
Иван ответил за гонца:
— Приказ тебе приволок. Лично.
— Вот, — протянул Павлуня бумагу.
Отец и сын переглянулись. Женька крутил телевизор, словно его ничего больше не интересовало. Модест стал было читать приказ, но Иван, мешая ему, приговаривал:
— Иди, иди, вкалывай! Поманили тебя — беги! Все равно хорош не будешь! В лес тебя, на каторгу! За какую провинность? Вспомни, как он тебя! Вспомни!
Модест вспомнил: баки его дрогнули.
— И не ходи, не думай! — кричал Иван, размахивая кулаком. — С твоим талантом тебя везде примут! С двумя руками распростертыми! Дай-ка!
Он вырвал у сына приказ, разорвал его, бросил на ковер.
— Видал? Так и передай Ваське Аверину: Петровы, мол, обид не прощают!
Из другой комнаты выплыла высокая красавица, в желтом, с красными петухами, халате до пят. Халат в талии тонко перехватывался пояском. Золотые Золушкины волосы были распущены по плечам. Она посмотрела на ковер и сказала голосом заправщицы Вики:
— Очумели, что ли? Собери огрызки!
Модест тут же нагнулся, собрал бумажки, поглядывая искоса на Павлуню. Иван взял их у него, сунул гонцу в ладонь:
— Передай Ваське. Лично.
Павлуня краснел, шевелил губами, таращил синие глаза, стоя на пороге с остатками приказа в кулаке.
— Чего глаза рачишь? — усмехнулся Иван. — Гляди — выскочат!
Павлуня выпрямился.
— Торгаш чертов! Хапуга проклятый! Куркуль вонючий! — со вкусом обсасывая каждое слово, выговорил он.
Робость прошла. Парень с большим удовольствием смотрел, как моргает Модест и как Иван широко открывает рот. Женька живо повернулся и ждал, что будет. А Вика громко и одобрительно сказала:
— Ай да Пашка!
— Сопляк! — слезно вскричал наконец Иван, не выдумав ничего лучше.
Павлуня с тем же спокойствием ответил:
— Лучше сопляком быть, чем подлым.
Сказал и сам удивился законченности своих речей. Надел шапку, пошел к двери, но Иван кричал ему в спину:
— А ты кто такой?! Кто тебе дал право?! Я тебе разве должен?!
Павлуня через плечо посмотрел на него, увидел Трофима, который с трудом удерживал в тележке козла, и проговорил:
— Трофим там... израненный... Разве он за огурцы твои страдал?
Модест решительно подошел к полированному шкафу, пнул попавшегося под ноги пуделька, настежь распахнул зеркальные дверцы. Рванул — полетели на пол брюки и платья.
— Сдурел?! — кинулась было Вика, но супруг медленным торжественным жестом остановил ее, вытащил из дальнего угла черный пиджак и надел его не спеша.
На пиджаке брякали две медали.
— Гляди, — печально сказал он Павлуне. — Я тоже. На фронте. Мирном.
— До последней капли пота! — забрызгался Иван.
Модест силился затянуть пиджак — полы на животе не сходились. Павлуня насмешливо поглядывал на него. Иван хотел пошуметь еще. Вика с досадой подняла бровь:
— Хватит. Надоело.
Иван примолк, а красавица лениво сказала посыльному:
— Ну, насмотрелся на наше житье? Уходи — все равно дальше порога не пустят: ковры у них, чертей.
Молодая и гордая, она ни лицом, ни статью не походила на Петровых и казалась золотой рыбкой среди головастиков. Павлуня глядел на нее и недоумевал, как это они сговорились жить вместе — некрасивый толстый Модест и красавица Вика.
За окном послышался голос Трофима. Павлуня испуганно повернул голову. Козел бунтовал, просился домой, а его подружки, подойдя к родному забору, дружно вставали на дыбки, по-свойски заглядывали в огород.
— Борьку возьмите, — устало сказал Павлуня.
Женька захохотал и полетел на улицу. За ним вышел Павлуня. Подышал — воздух был свежий, без щей и капусты. Трофим уломал-таки козла: тот притих, пригрелся, посматривал из-под капюшона четкими янтарными глазами.
— Слушай, зачем скотину в зеленя пускаешь? — строго спросил Трофим у Ивана, который смирно стоял возле калитки.
Рядом с ним красовался Модест с медалями на груди.
— Да кто ж ее знает, скотину-то, — тоненько сказал Иван. — Она гуляет, где хочет. Глупая.
— Вот заплатишь штраф — узнаешь!
Иван подобрал губы, глазки его сузились.
— Я за козлов не ответчик. А ты мне не Советская власть. Какое у тебя право на меня шуметь? Я тоже гражданин, у меня права. — Иван стоял и смотрел с торжеством победителя.
Модест тихо стянул с себя пиджак, спрятал за спину. Вид у него был грустный.
— Козлы, — проворчал Трофим. — Россию объедаете. — Он замахнулся на Борьку: — Ты еще тут?! Брысь! Не погань плащ!
Вожак радостно кинулся к подружкам. Трофим задергал вожжами, Павлуня едва успел влезть в тележку — Женька сидел уже там, брезгливо натягивал на себя плащ.
— Постой-ка! — помахал рукой Иван Петров.
— Чего тебе? — нахмурился Трофим.
Иван отворил калитку, запустил во двор резвую ораву, потом приблизился к Трофиму. Обскакав его глазами от новой кепки до старой деревяшки, спросил:
— Слушай, тебе больше всех надо? Аль не навоевался? Чего везде задаром лезешь?
Трофим, склонив голову, слушал. Забывчивый Женька отвернулся, словно он и не был в гостях и не ел чужое варенье. Зато Павлуня сегодня разговорился на удивление:
— Чего он понимает, темень хорошовская!
— Так! — крякнул довольный Трофим.
— Пашка! — запоздало надрывался Иван. — Я тебе эти слова припомню!
Они долго ехали молча. Лошадь с усилием везла тележку по грязи. Павлуня сквозь теплую полудрему с умилением поглядывал на ее расчесанный хвост. С одного бока к нему привалился Трофим, с другого ерзал Женька.
— Сладкое варенье-то? — спросил вдруг Трофим.
Лешачихин сын беспечно ответил:
— Сладкое. А как вы с козлом-то обнимались! Умора!
И все трое рассмеялись.
Когда подъехали к центральной конторе, небо уже сплошь заткали сумерки.
— Ну, Алексеич, сходи-ка к начальству, доложи, — сказал Трофим.
— И я с тобой! — соскочил Женька. — Не бойся!
Елизавета Егоровна сидела под фикусом, достукивала последние срочные приказы временного директора.
— Давай к самому: ждет, — сказала она Павлуне. — А ты осади!
Эти слова относились уже к Женьке.
— Да ладно уж! — Пока усталая секретарша поднималась, Лешачихин сын уже прошмыгнул.
В кабинете директора горела одна настольная лампа. «Сам» сидел, разбирая бумажки: многие рвал и бросал в корзину, иные, наскоро пробежав глазами, откладывал в сторону. Вид у Василия Сергеевича вечером был совсем не такой измученный, как днем, на людях, а самый обыкновенный аверинский — деловой и напористый.
Плечи под рубахой выпирали. Пиджак висел на спинке кресла: Аверин работал вольно, закатав рукава.
Перед парнями он не стал притворяться оглохшим от забот, а сразу нетерпеливо спросил:
— Ну?
Спросил не зычно, как вчера, и не шепотом, как нынче, а нормальным человечьим голосом, каким он говаривал, будучи простым комбайнером.
Павлуня, стоя у стола, принялся рассказывать. Аверин слушал, швыряя бумажки в корзину, изредка взглядывал на гонца. Женька морщился, открывал рот, дергал головой: он бы описал все не так — в красках.
— Вот и все, — отговорился наконец Павлуня. — А козла ихнего, Борьку, мы отпустили, пожалев.
Аверин откинулся в кресле, потер сильными ладонями лицо.
— Ну и черт с ним, с козлом! И с Модей! Обойдемся!
Василий Сергеевич встал, большой, как мамонт, потянулся — едва не зацепил люстру, гордость Громова Ефима Борисовича. Прошелся по старому кабинету, насмешливо оглядывая немодную мебель. Расправил знамена, чтобы лучше был виден Ильич, подошел к окну. Мощно светили белые фонари на центральной улице. В огнях был поселок, а дальше посверкивали звездочки на столбах — возле хранилищ, вдоль дороги, у мастерской.