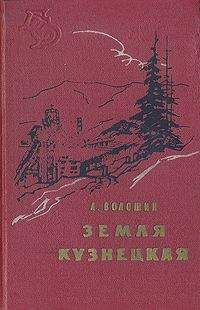Врачи недолюбливали друг друга. Это не бросалось сразу в глаза, но стоило только прислушаться к тому, что каждый из них говорил, как относились они к недугу девушки, — становилось ясно, что эти два разных по характеру человека совершенно по-разному подходят к своим задачам.
Антонина Сергеевна двигалась бесшумно, словно плавала над землей. Когда являлся Данилов, она смотрела на него строгими, немигающими глазами и часто повторяла шепотом:
— Ти-ише! Не топайте так сапожищами!
А Тоню упрашивала:
— Голубушка, самое главное: абсолютный покой, самое главное в вашем положении — умение выключить себя из всех забот.
Данилов проникся к Антонине Сергеевне благоговейным уважением, в ее присутствии ходил на носках, кашлял в ладошку и даже дышал вполсилы.
Однажды он застал у постели больной Ткаченко; был он какой-то порывистый, с угловатыми движениями — этот не кашлял в ладошку, не просил тишины. Познакомившись с Даниловым, он почему-то обрадовался и тотчас устроил ему форменный допрос.
— Тоже снайпер? И какой счет, позвольте? — А услышав, что у Данилова на счету триста девять гитлеровцев, встопорщился: — И все наповал?
— Как правило, — подтвердил снайпер.
— Нет, вы знаете что-нибудь о таком правиле? — Ткаченко суматошно оглянулся на Тоню, но та лежала, полуотвернувшись к стене.
Когда шли от нее, Данилов осторожно спросил:
— Как, доктор, дела?
— А вы кто ей будете? — неожиданно отозвался тот.
— Я? — Степан заглянул в его строгие в эту минуту глаза. — Я люблю ее, доктор, она мне дороже жизни!
Ткаченко неопределенно помахал перед собой рукой, потом сжал кулак и почти закричал:
— Правильно делаете! Любите ее да не втихомолку, а чтобы все люди об этом знали! Бы же солдат, шахтер, у вас молодое, сильное сердце, ну и зовите ее в жизнь — в этом все дело. — Он помолчал и заругался: — Черт, не прощу себе, что немного опоздал, а потом проглядел, как эта Антонина Сергеевна опутала, оплела девчонку своей тишиной, шепотом. И мамаша вот, глядя на нее, свихнулась, готова отгородить свою дочь перинами даже от солнца, Вот глупистика!
Прощаясь, он еще раз напомнил:
— Степан Данилов, вы тут сейчас можете сделать больше, чем десять профессоров. Слышите? Вы приходите к Тоне из большой жизни, от таких людей, которым весь мир завидует. Ну и тащите ее в эту жизнь, расправляйте ее силенки! Надейтесь, — в вас должен быть такой талант.
— Такого таланта у меня на батальон! — пошутил Данилов и с тех пор стал «тащить» Тоню в жизнь. В этом не было ничего нарочитого, надуманного, все шло от сердца.
А на шахте с каждым днем становилось все труднее.
Часто Данилов злился на себя: когда же придет привычка к необычному для него труду, когда же вместо мучительного нытья, в руках, в каждой косточке он будет чувствовать просто приятную усталость, удовлетворение?
Тоня иногда спрашивала:
— Ну, как у тебя, Степа? Ты привыкаешь?
— Привыкаю, — торопливо соглашался он, — а то как же!
— Тебя хвалят шахтеры? А я, знаешь, во сне видела, что тебя комдив вызывал и хвалил перед строем за то, что ты хороший, знаменитый шахтер. А я думаю: «Какой же он шахтер? Он же снайпер».
— Насчет того, чтобы хвалили, — слабовато… — признавался Данилов. — А мне нельзя больше так работать, понимаешь? Бригада-то моего имени! И знаешь, какие люди? Горячие, добрейшие парни. Вчера вон собрание было. Президиум избрали. Такой-то стахановец, такой-то, а потом: Герой Советского Союза Данилов. Не сказали, что стахановец, а я хочу как раз этого — уже не могу иначе! Потом сидел в президиуме и думал: вот встанет скоро Тоня, вместе будем ходить на такие собрания, — пусть слышит, как обо мне говорят.
Щеки у Тони розовели, она вздыхала и медленно выговаривала:
— Хорошо, Степа, с народом, тепло. Ты ведь веришь, что я буду с тобой, вместе со всеми?
Он верил в это и вот до чего дожил: «Не тревожьте доченьку… Не топчитесь на чужом горе!»
Это Степан Данилов топчется на чужом горе? «Эх, мама, мама, как только у вас язык повертывается…»
Данилов подождал с полчаса Рогова и лег спать. Но и тут постигла неудача — сна не было. Пришлось встать, уже второй раз после смены. Вскипятил чай, все приготовил к ужину, но и ужинать расхотелось. Постоял у окна, глядя сквозь заснеженное стекло. «Что-то сейчас Тоня делает? Плохо, Тоня, с твоим солдатом, ой, как плохо!»
Где-то за скользящей сеткой крупных снежинок мелькнули шахтные огни. Шахта… Данилов вдруг круто повернулся и, торопливо одевшись, выскочил на улицу.
Шахта! В первый раз за эти недели он идет к шахте за помощью, за советом. Какая-то будет она в эти минуты? Такая же суровая, требовательная, как и в часы труда?
По дороге увидел огонек в окне у секретаря. Решил зайти к Бондарчуку, поговорить с ним по душам.
Бондарчук был один. Медленно поднял крутолобую голову от книги, устало улыбнулся.
— Читаю и прислушиваюсь к тому, что в шахте делается. Садись, Степан.
Данилов разделся, сел и сказал:
— Извини, Виктор Петрович, решил зайти к тебе, что-то туманно у меня на душе. Хотел поговорить… — Помолчал и вдруг спросил: — Как думаешь, Виктор Петрович, что такое счастье?
— Счастье?.. — Бондарчук заложил книгу линейкой, закрыл, быстро перепустив страницы, потом прошелся вокруг стола, следя за своей угловатой тенью на стене. — Трудный ты мне вопрос задаешь, Степан. Может быть, подумаешь и сам ответишь?
— Я думаю, я все время думаю.
— И все ищешь это счастье?
Степан тряхнул головой.
— Чего мне искать, я хочу понять его.
— Ну, что ж… Счастье ведь всякое бывает.
— На всякое не согласен.
Глаза у Бондарчука прищурились.
— Но ведь счастье это у тебя в руках. Неужели не испытываешь?
— Испытываю. — Степан лег грудью на стол. — Трудное оно, Виктор Петрович. Иной раз даже и в лицо не узнаешь.
— Трудное… Это ты правильно сказал. Настоящее счастье — трудное счастье. Но еще труднее бывает его увидеть во весь рост. Счастье, по-моему, в единстве с народом, в борьбе за народ… И еще в том, чтобы рассмотреть сквозь будни великое завтра, чтобы носить это завтра в своем сердце, в крови. Понимаешь, Степан? Вот мы шли на запад, и почти у каждого было такое чувство: прошел километр — и позади на этом километре теперь можно и любить, и родить, и хлеб сеять — все можно. И самое главное — жить по-человечески. Вот что! Жить! А теперь? Теперь мы и сердцем и хваткой солдаты!
Степан подхватил:
— Я солдат — это так. Но мне все кажется, что за главное-то я и не ухватился в жизни. Вот шахта… Ну, что такое я для шахты? По-моему, человек должен быть там, где нет ему в эту минуту замены. А я… смотри! — он рывком выбросил перед собой руки — на ладонях багровые пятна мозолей.
Бондарчук мягко улыбнулся.
— Значит, шахта не по душе?
— Скорее, не по рукам. Ты говоришь: «Счастье у тебя в руках», а мне приходится держаться за него зубами: такими руками сейчас ничего не удержишь!
Не спуская с парня испытующего взгляда, но тоном обыденным, безразличным Бондарчук сказал;
— Был у меня сегодня такой разговор о тебе… Вижу, что трудно. Но ты сам-то как думаешь, есть для тебя замена у черепановцев?
— Замена?
— Да, ты же сказал: «Человек должен быть там, где его трудно заменить».
— Не-ет… — Степан медленно выпрямился, потом быстро встал. — Об этом мне и думать заказано, если бы даже пришлось стоять насмерть… Как в бою! И сейчас я не о себе хочу сказать.
Он пересел поближе к парторгу и, очень волнуясь, рассказал о своем и Тонином горе. Но хотя там и стала поперек пути мать, Тоня все равно должна слышать голос живой жизни. Только как это сделать, чтобы по-хорошему, по-человечески?
За все время, пока Степан сбивчиво рассказывал обо всем этом, Бондарчук и словом не обмолвился. Лицо его оставалось спокойным. Только в карих глазах мелькало то удивление, то горячая заинтересованность.
— Дальше. Не волнуйся.
— Чтобы по-хорошему, по-человечески! — настойчиво повторил Степан.
Бондарчук молчал с минуту, потом будто нашел нужную мысль, откинул голову и поглядел на Данилова повеселевшими глазами.
— Степан, тебе очень тяжко доставалась работа в забое?
— Очень.
— Но ты преодолеваешь?
— Преодолел уже.
— Ну, а если бы ты один под землей копался и не было бы никого кругом, ты бы стал преодолевать?
— Ради чего же? Ради мозолей, что ли?
— Вот то-то и оно! Ты был с народом, ради него ты и кровянил себе ладони. А ей одной каково преодолеть болезнь? Так что — поправка маленькая, Степан: Тоню нужно вырвать в нашу большую жизнь! Не ходи, Степан, вокруг да около — женись на Тоне!
— Жениться?
Степан удивленно глянул на парторга, задышал часто и, тут же поспешно собравшись, вышел. А минут через двадцать, как-то незаметно для себя, оказался у домика Тони. Постоял немного, потом оглянулся, словно заново услышал слова Бондарчука: «Женись на Тоне!»