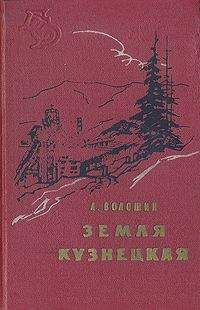Или из верхней просеки лесогоны кричат: «Принесли крепежник!», а уважаемый Митенька отвечает: «Оставьте там, понадобится — возьмем». Это где же там, я спрашиваю? Там — это нигде. Митенька в добрые вошел к лесогонам: «Хорошие, — скажут, — эти комсомольцы, покладистые!» Только такая доброта боком для работы вышла. Я заметил, что мы на перепуск крепежника затратили не меньше часа. Нерентабельно!..
Черепанов сказал это непривычное для себя слово и вопросительно глянул на Рогова: «Может, не то слово?»
Рогов торопливо закурил. Взволновал его весь этот вечер у комсомольцев и особенно последнее выступление бригадира. Праздничный вечер! С высоты такого вечера проглядывались удивительные дали, о которых месяцев шесть тому назад даже и не мечталось. Что-то нужно было сказать молодым шахтерам, чтобы согреть их прямые светлые души… Но в этот момент вошел Данилов, стряхнул у порога снег с шапки, разделся.
— Садись, Степан Георгиевич, — пригласил Черепанов и строго добавил: — Подзапоздал малость, заканчиваем.
Степан присел рядом с Роговым, поглядел на него» на забойщиков, и теплые токи тронулись в его сердце. По взглядам Рогова, Черепанова, по глухому покашливанию Сибирцева, по умным веселым искоркам в глазах Митеньки он понял, что вся его простая, не легкая жизнь как на ладони перед товарищами. Рогов положил крупную горячую руку ему на колени, сказал вполголоса:
— Надо поговорить, Степа. Вечерком потолкуем.
Рогов ушел — его ждали дела в шахте. Митенька быстро приготовил ужин, что, по его мнению, тоже входило в обязанности председателя, потом принялись за чаепитие.
Глядя на лица товарищей, которые стали ему так же близки, как когда-то друзья на войне, Степан видел, что все сочувствуют его беде, только не знают, как помочь. Они даже ждут от него слова о том, что делать, готовы поддержать, ободрить.
И неожиданно для себя, отставив стакан с чаем, Данилов сказал:
— Товарищи, хочу рассказать вам про один случай. Тут кое в чем разобраться вместе требуется. Я тогда еще не снайпером, а разведчиком был.
Вцепились мы тогда в левый берег речушки и ни шагу назад. До боев были на этой земле сады, деревни с белыми избами, а потом ничего не стало. Огонь фашистов все пожег. Но наши люди так крепко встали — ничем не отдерешь. Трудно было…
Степан пригладил волосы, рассеянно оглядел комсомольцев и на секунду плотно сжал губы.
— Наш полк стоял на длинном крутом увале —. вокруг ни дерева, ни кустика. Позади нас, в четырех километрах, река, перед нами болото, за ним снова рыжий увал и поперек его, устьем к нам, узкий овраг. Бывало накопятся немецкие танки или самоходки где-то в излучине оврага, а потом выскочат в устье, развернутся веером. Житья никакого — не было. Мы же на виду, а бьют они прямой наводкой. Десяток НП сменили, но от огня не ушли.
Как-то утром, после беспокойной ночи, вызывает меня комбат Павел Гордеевич. Глянул я на него и прямо ахнул: вот уж кого действительно измотал этот плацдарм. Вы же знаете, что Павел Гордеевич — человек крепкий, а тогда, за эти три недели, лицо у него ссохлось, задубело, глаза щурит, как будто глядит против солнца. А так спокоен, голосом ровный. Когда шли по ходу сообщения, он сорвал на бровке желтый цвет люпина, помял в пальцах, понюхал и вроде как усмехнулся. Я еще подумал: «Не иначе, письмо получил». Получал он эти письма чуть не каждую неделю, а от кого — только теперь я узнал.
Степан вздохнул мечтательно.
— Эх, ребятки, знали бы вы, как хорошо письмо на войне получить. Мне вот никто не писал. Но один раз старшина дает кисет — подарок от земляков. А в кисете записка: «Дорогой товарищ, мы помним о тебе. Желаем здоровья и скорой победы. Оля и Вера». Я ту записку вместе с комсомольским билетом носил.
Во-от… Вышли в тот раз до боевого охранения. Попыхал комбат самокруткой, пощурился на немецкую горку, а потом показывает на устье оврага: «Знаешь эту щель?» — «Знаю, — говорю, — как же… На свету оттуда вернулся».
Павел Гордеевич кивает: «Хорошо. Приказал хозяин запечатать эту дыру. Поведешь сегодня туда минеров. Только чтобы наверняка, наглухо». Когда будет заминировано, проберись к мертвому танку и разведай положение у противника.
Часа четыре пролежал я у амбразуры — заново подступы к оврагу изучал. Насчет работы на войне у меня всегда нюх был верный, — так вот и в тот день, вижу, попыхтеть придется. Принесли ужин. Выпил я свои сорок шесть граммов спирта. Выпил, закусил и лег спать тут же, под низким накатом из жердочек. Уснул, и словно бы через минуту будят меня, но это только показалось, что через минуту, а на самом деле была уже ночь. И такая теплая, в звездах и без стрельбы. Ветерком умыло меня, и от потайного костра нанесло горький березовый дым. Моих саперов я нашел в развилке траншеи. Сидят у стеночки, в рукава курят.
Спрашиваю: «Дышите?» — «Дышим». — «Ну, дышите, — говорю, — потом некогда будет. Да показывайтесь, сколько вас, какие вы?.» — «Дюжина», — отвечает кто-то тоненько, а второй возражает: «А товарища санинструктора забыл?» — «И то правда. Тринадцать, выходит».
Командовал саперами старшина. Наскоро познакомились. Как следует, конечно, не видать, но когда всмотрелся, вижу — народ крепкий, с такими воевать веселей. Рассказал про путь-дорогу. Старшина поторопил: «Все ясно, сержант. Давай трогаться».
На ничейную землю выползли в боевом охранении. Обошли свое минное поле и потом в низину. Двигались не очень скоро — каждый сапер тащил по шесть противотанковых мин. Да я и не торопил — ночи в августе длинные. Осталось уже совсем недалеко от устья оврага, когда над нами щелкнуло и повис первый фонарь. До смерти не любил я эти фонари — свет от них как будто на плечи давит, к земле прижимает. Большая тренировка нужна, чтобы при таком свете двигаться. Правда, мы со старшиной пользу от этого получили — определились точнее, прикинули, как ловчее пробраться к нужному месту. А немцы словно почуяли нас — пулеметами донимать стали. Шальные очереди так и буравят, землю вокруг нас щупают. Старшина всего один раз пожаловался, когда его забрызгало болотной грязью: «Черт их возьми… У них нервы, а я вот ползай арап-арапом».
С самого начала я нацелился к трем подбитым немецким «тиграм» — это их здесь наши пушкари настигли. За их броней нам была обеспечена некоторая свобода маневра. Саперы отдохнули, но немного. И успел только сползать к оврагу, а они уже за «посев» принялись. Работали тихо, без стука, без звяка, но очень быстро. Наконец старшина говорит: «Разведчик, играй отбой. Сейчас вот Антон Федорович Помилуйко вернется, и тронемся. Он в самом овраге нескольких «попрыгунчиков» поставил — сами же немцы их делали, вот и пусть нюхают, чем это пахнет».
Прошло несколько минут, и наконец не далеко показался солдат. «Антон Федорович, — шепотом позвал старшина, — поторапливайся!»
И только он успел позвать, как черт дернул какого-то нервного немца пустить ракету над самыми мертвыми танками — я различил даже купол небольшого парашюта, на котором она повисла. Не знаю, увидели немцы Помилуйко или нет, только цветная пулеметная очередь ударила как раз по нему. Солдат охнул, потом еще раз и тут же протяжно закричал. Каждый, кто воевал, знает, что так кричать может только тот, кого смерть настигла.
«Антон Федорович!..» — старшина рванулся вперед, но я прижал его к земле.
Он мне шепчет; «Что ты? Человек смерть принимает…»
Разве я хуже старшины это знал? Но толку-то что, если и второго на том же кругу ударит? А немцы всполошились по-настоящему. Услышали, видно, голос солдата. Поднялось сразу до десятка ракет, мины взвыли. Наши услышали эту музыку и тоже — такого огонька дали! Уму непостижимо, сколько полетело железа над нашими головами. Но товарищ умирал совсем рядом, и мы не могли помочь ему в эту минуту. А надо было помочь, и не было у меня никаких сроков, чтобы подумать.
Старшина не вытерпел, спрашивает: «Что ж ты?»
Я только рукой махнул. Толчком выскочил из-за танка и в один вздох проскочил сорок метров до раненого. Упал рядом. Очень плохо у мужика: запрокинул он голову между кочками и тихонько стонет. Поправил его, он вскрикнул. Рука у меня липкой стала. Такая обида сдавила меня, дышать нечем. Человек свет белый видел, за жизнь дрался и вот упал среди поля. И гордость во мне поднялась, что я рядом с ним, что никуда не уйду. Такое решение принял. Позвал его: «Антон Федорович…»
А он шепчет: «Пи-ить…»
Я его попросил потерпеть, а сам тороплю себя. Ну, как тут быть? Тронуть солдата нельзя — закричит в беспамятстве. А на мне тринадцать человек. Но и оставить его тоже нельзя, об этом даже и не думалось…
Потом у меня мысль мелькнула. Горькая мысль, но тут уж приходилось изворачиваться. Рванулся снова к саперам. Дохнул поглубже и говорю старшине: «Плохо, друг. Тело не вынесешь. Видел, как я сигал? Не дают черти шевельнуться. А ждать невозможно. По-моему, нас обходят. Веди взвод обратно. Да торопись».