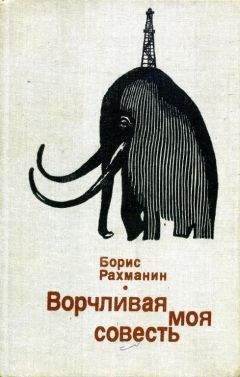«Ну нет, Лазарев, ошибаешься… — думал Фомичев. — Напрасно надеешься, Заикин. А Лазарев, видно, только об этом и мечтает, чтоб улетел я, исчез. Чует кошка, чье мясо съела». Эх, Лазарев, Лазарев, не обманешь!.. Нет! Интуиция у Фомичева — будь здоров! Звериная, можно сказать, интуиция у него. Пусть и не доказано ничего, пусть чистеньким из ситуации этой вышел Лазарев, но… «А что, если в другую бригаду перейти? — размышлял Фомичев. — Нет, выйдет, что сдался он, что одолел его Лазарев. А может, в самом деле — того?.. По-английски, не прощаясь? Нах Москау? Нет, нет… Нет!» Была некая причина — не каждому расскажешь, — властная, сильная причина появления Фомичева в ямальской, ненецкой тундре. Она же его здесь и удерживала эти два года. Здесь, на буровой, в поселке Базовом, в поселковом общежитии, в вагончиках этих, в бригаде лазаревской… Фомичев брился и вспоминал, как он впервые объявился здесь, на буровой. Не на этой, не на Сто семнадцатой, а на предыдущей, Сто пятой. Спрыгнул с вертолета и тут же, по-снайперски прямо, угодил меж двумя кочками, в топь. Вертолету подниматься надо, винт все быстрее. «Беги! Беги!» — сердито делает ему знаки пилот. А он никак резиновые сапоги из грязи не вытащит. Ну, оставил сапоги и в одних носках отбежал. Когда вертолет исчез, он вернулся и едва их вытащил, сапоги эти злополучные. Лазарева на буровой в тот день не было, принял Фомичева бурильщик, вахтовый. А как он возник перед Фомичевым — по сей день оторопь берет. Свистнуло что-то, щебетнула стальная тросовая оттяжка, идущая с самого верха буровой до вбитого в почву массивного бетонного клина, и перед Фомичевым встал темно-смуглый, с мускулистыми тугими губами парень. Полон рот белых зубов. Что-то хищное, ястребиное было в его облике. Сразу, с первого взгляда, ясно — смел до безумия.
— Фамилия?
— Фомичев.
— А я Серпокрыл! Слышал?
Фомичев кивнул, хоть никогда, естественно, о нем не слышал.
— То-то! А тебе отныне имя будет Лопух. Понял?
— Почему?
— Потому что лопух ты! Давай, Лопух, валяй к стеллажу, трубы укладывай!
Самому мастеру, Лазареву, и тому дал Серпокрыл прозвище. Узником прозвал. Брата его, Петра Яковлевича, — Сынком. Братья Лазаревы, подростками еще, лет в пятнадцать, а то и моложе, попали — один в концлагерь Освенцим, а другой на фронт, сыном полка, отстаивавшего Сталинград. Вот какая разная выпала близнецам судьба. У Петра Яковлевича была на голове лысина, у Степана Яковлевича — седая шевелюра. От переживаний? Стало быть, по-разному переживали. Ох, так, бывает, сцепятся близнецы. Сколько лет по Сибири один за другим ходят, женились одновременно на двух подругах, чтобы не расставаться, а нет-нет и… «Не трожь за больное! Да, узник я… Меня в Освенциме железом раскаленным жгли!» — «Эка невидаль! А я Сталинград защищал! Я…» — «Мучили нас там, пойми! За проволокой колючей, там… Пытали…» — «А я… А мы — мы по ним стреляли! Прицельно!..»
Володю Гогуа Серпокрыл называл Экспонатом. Оттого что тот был в свое время, еще до военной службы, заведующим Музеем-выставкой древнего оружия. И очень надеялся вернуться на эту работу снова. Заикина он звал Мухой, хотя тот настаивал на другом прозвище, просил называть его Сэм.
— Серпокрыл, меня же Сэм кличут! Официально! Три года Сэмом был сам знаешь где! А ты меня — Муха!
— Муха и есть.
— А сам-то ты кто? — щерился Заикин. — Думаешь, я тебе придумать не могу? Хочешь, придумаю? — В глазах у него таилась угроза. Трусливая, выжидающая, притворно хохочущая угроза. И восхищение в них было. Странно, но Серпокрыл с Заикиным были внешне чем-то похожи. Ничего общего в характерах, да и глаза разного цвета, у Серпокрыла черные, у Заикина карие, — а похожи, как братья. Даже Лазаревы, и те меньше один на другого похожи.
И Фомичева Серпокрыл не миловал. Заставлял по многу раз за смену взлетать на самую верхотуру — это же добрый восьмиэтажный дом! — требовал как можно реже касаться руками сваренных из железных прутьев шатких перил. А иногда и без лестницы заставлял обходиться — добираться до люльки на скобе элеватора, как на лифте. Не раз заставлял он его — но так и не смог этого добиться — соскользнуть с сорокатрехметровой высоты по ржавой, туго вибрирующей струне оттяжки.
— Технику безопасности соблюдаешь? — посмеивался Серпокрыл. — Или штаны между ногами прожечь боишься? Эх, Лопух…
— Серпокрыл, — все приставал к нему Фомичев, — а хоть один газовый фонтан у тебя был? Как это? Фонтан газа… Невидимый, что ли? На что он похож?
Серпокрыл посмеивался, отмахивался от него. Но однажды сказал:
— На солнце похож!
— На солнце?
— Именно! Его же зажгли, а давленьице такое, что огонь только в трех метрах от трубы. Вроде самостоятельно висит в воздухе, как солнце… Ну ладно, ладно, чего рот раскрыл? Принимай свечу, Лопух!
— А нефть? Какая она, по-твоему, нефть здешняя? Черная? Золотисто-коричневая?
— Красная!
…Как далеко видно с вышки! Просторище! Вогнутая чуть тундра, озерца, озерца бесчисленные по ней. Говорят, тут на каждого человека по семь озер приходится. И не такая уж она пустынная, вовсе не мертвая — тундра. Прячется, затаилась душа живая. Песцы, полярные куропатки, совы с бровями из перьев… Лемминги — мышки, похожие на крохотных кенгуру, — шныряют. А там, дальше, на горизонте, нет, за ней, за линией, как бы уже в небе просматривается, угадывается большая, бездонная вода. Обская губа, Тазовская губа… Море Мангазейское. А еще дальше сизые, оцепеневшие шельфы моря Карского… Плотный песчаный свей в прогалах снега и льда на берегу, белые медведи спят в ропаках, прикрывая лапой единственную демаскирующую точку, черную пуговицу носа. А Карское… Оно плавно переходит в сам Ледовитый. Айсберги в стаю сбились, чокаются, как бокалы. Гудит, стонет, мелко вибрирует по всем пиллерсам станок. Ветер с океана. Ветер… Ямал! По-ненецки — край света.
6-а
…Весной это случилось. Весной прошлого года. Настали уже ночи без темноты — белые северные ночи. Светло. И с каждым днем все светлее, светлее. Жутко даже поначалу было. Непривычно. Но в ту весну Фомичев бессонницей еще не страдал. Наворочается за вахту с элеваторами, труб натаскается до гудения в костях — спит как убитый. Заикин его в ту ночь растолкал, Муха то есть.
— Глянь-ка в окошко, Лопух! — со смехом умолял Заикин. — Глянь, не пожалеешь!
— Что там? Олени?
Фомичев поднялся, зевая, почесываясь, посмотрел в окно. Светло было там, за окном, это в три-то часа ночи, светло, как в тихий, чуть пасмурный день. Хочешь, книгу читать можно. Хочешь, контрольную по первобытнообщинному строю готовь… Прозрачное небо, тундра, и идут по ней в обнимку двое — Серпокрыл и Галя, Лазарева жена. Остановились. Целуются… Вообще-то Фомичев не первый раз замечал гуляющего по тундре Серпокрыла. Даже зимой тот прогуливался. Тем более сейчас, весной. Почти летом. Но раньше он прогуливался один..
— А мастер где? — задал Фомичев глупый вопрос.
Заикин расхохотался:
— Занят! Занят мастер! За клапанами подался! На базу! Вот Серпокрыл его и заменяет!
Они уходили все дальше, в тундру. Но ни деревца вокруг, плоско, не спрячешься. Видно все.
— А Сынок, то есть Петр Яковлевич, где?
Заикин опять зашелся:
— Этот свою стережет, Зою! Ух, дела!..
— Ну, чего ты, чего? — закричал Фомичев на Заикина. — Хватит. Замолчи!
Ухмыляясь, тот уселся на койку, спиной к стенке вагончика, самодовольно шевеля пальцами босых ног. На правой: «Куда идешь?» На левой «Иду налево!» Проследил за тем, как Фомичев читает татуировку, и не без гордости подмигнул:
— Это мне там накололи. Меня там, между прочим, Сэм звали. Учти!
«Какая пошлость, — брезгливо подумал Фомичев. — И ведь не смоешь…» В который раз, нечаянно натолкнувшись взглядом на знаменитую заикинскую татуировку, он не мог удержаться от этой мысли: и ведь не смоешь…
— Никому ни слова, Заикин, — произнес Фомичев угрюмо, кивая на светлое окно, — никому!
Заикин снисходительно засмеялся:
— Чудак, я ж приблатненный, а не… Официально!
Весь остаток ночи заснуть Фомичев уже не смог. Светло за окном… Непривычно светло. У него в Москве белых ночей в подобном роде, можно сказать, нет. В Москве есть многое другое. Метро есть, храм Василия Блаженного, настоящий Калининский проспект есть… Папа с мамой там у Фомичева имеются. Художница одна есть знакомая… А вот белых ночей — совсем чтоб белых — нет. А белые ночи — они такие, сразу уснешь — выспишься, а если глаза откроешь, хоть на миг, — все. Организм спать дальше отказывается. А тут еще такое… Серпокрылу-то можно и не удивляться, Серпокрыл есть Серпокрыл… Но Галя!.. Ведь у них же с Лазаревым такая хорошая семья вроде. Хоть он и старше намного. Сколько раз встречал их Фомичев на поселковом проспекте, на бетонке. Почти всю получку бригадир на жену тратит. Серьги ей недавно купил золотые, тяжелые. Говорит, невропатолог ей серьги золотые прописал, голова чтобы не болела. Замечено, мол, что серьги помогают. Терапия, мол. Вот тебе и терапия! И все же винил Фомичев не столько Галю, сколько Серпокрыла. Вне всякого сомнения — он виноват. Гулял бы один ночами белыми по тундре. Зачем же с Галей?..