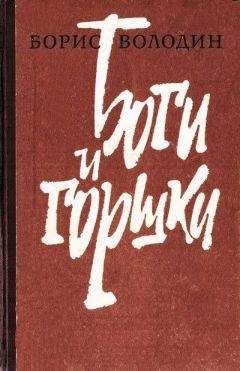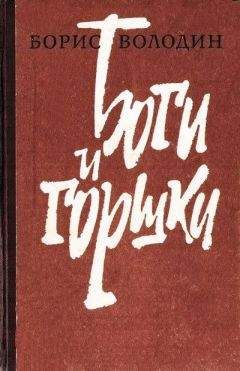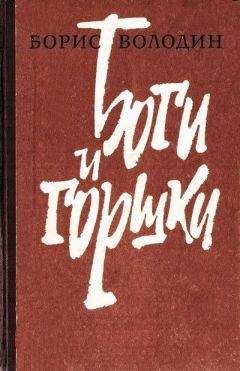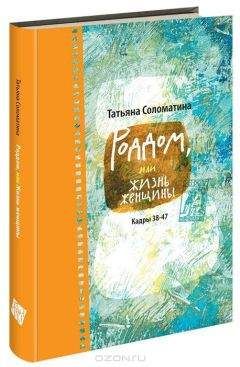И еще Людмила вдруг раскрыла дверь, заглянула, что-то хотела сказать ему, но увидела, наверное, под шкафной дверцей ноги старшей, ничего не сказала и исчезла, а потом снова заглянула и снова закрыла дверь.
Все это мешало расшифровывать то, что крылось в загогулинах, на ходу поставленных в тетрадочном листке. А больше всего мешало, конечно, что он спал всего полтора часа да изрядно нанервничался — и когда были те щипцы, и когда кровотечение, и оттого, что Бабушка Завережская вносила со страху во все события изрядную долю суматошности, и оттого, что на конференции ему досталось слегка.
Голова была пустой и гулкой. Мысли плавали в ней медленно и неподатливо, как в невесомости. Старшая детская кончила, слава аллаху, шебаршиться и ушла. Но только она ушла, в ординаторскую влетела Людмила. Влетела, зажмурилась — после коридорной тени очень резко ударил ей бивший в окно солнечный свет, — бухнулась рядом на горбатый диван в застиранном чехле с четкими печатями «р. д. 37» на самых видных местах. Больничные диваны быстро начинают горбатиться, — этому было два года, как и роддому, просто очень уж на него все бухались.
Людмила скинула колпачок, сдернула с шеи маску с лиловым помадным пятном и сказала отчаянно:
— Сав-в-вичев, милый, в-возьми мои сутки. Ф-фся жизнь разламывается.
— Когда? — тупо спросил Савичев.
— Завтра!
— Так я же сегодня с суток. Разве можно через сутки — сутки…
— Ф-фсе равно возьми — больше некому. Ф-фсех просила — никто не берет. Да и кого п-просить, когда фсе в гриппе чертовом!
— А если и я завтра свалюсь?
— Не свалишьсся… Ты с-сам хвастал, что обтираешься снегом. С-спаси, Саввушка! Тебе ж деньги нужны, а мне — личная жизнь.
— Вот еще что! — Савичев хотел добавить, что даже отказался сегодня от двух баштановских групп из медучилища, а деньги почти те же. Знал бы, что пошлют на обход в послеродовое, так отлично провел бы занятия и еще раздал бы девчонкам по паре историй на нос, чтоб записали под диктовку злосчастные дневники, — все легче…
Но он увидел, что глаза у Людмилы со слезами и совсем шальные, будто в них накапали атропину, и дальше не сказал ничего, а Людмила чмокнула помадой в небритую щеку и затараторила, даже почти не заикаясь:
— Будь, Саввушка, спасителем, ноги стану тебе мыть, с них воду пить, за тебя дневники писать, бутылку коньяку п-поставлю, п-пачку сигарет «Краснопресненские»; спаси, Саввушка, не в первый раз, не в последний. К-когда бабе тридцать, и она заика, и уже раз обожглась, она ф-фсего боится — и того, что будет, и того, что не будет. И ф-фдруг если завтра буду дежурить, вдруг не будет у меня уже ничего!..
— Ой, Людмила, — сказал Савичев, щурясь от солнца, бившего в щеку, и зевнул. — Не зря, видно, бывший твой Витенька тебе однажды глаз подбил. И зачем ты только меня обнимаешь, я же после дежурства, а акушер после дежурства — это не совсем мужчина. И вообще твои темпераменты предназначены не мне.
— Это т-точно, — сказала Людмила. — Был бы ты холостой или хотя бы неверный, можно было бы п-поду-мать, т-тебе или не тебе. А у тебя, Сережа, твоя Лилька, и ты, Сережа, еще анекдотически верный муж. И, значит, темпераменты не т-тебе, а т-тебе — дежурство.
— Хрен с тобой, — сказал Савичев. — Обойди четвертый этаж и приходи сюда с историями. Тогда обсудим, возьму ли я твои сутки и какой коньяк ты выставишь. А я пока подремлю и допишу эти дневники. В голове черт-те что делается.
Он потянулся, как только мог потянуться, зажатый диваном, столом и Людмилой, потом откинулся на диванную спинку и закрыл глаза на минуту.
…Лишние сутки — лишняя десятка.
Савичеву — десятка, Людмиле — новая личная жизнь.
Новая личная жизнь Людмиле очень нужна. Раньше у нее был муж, а теперь у нее мужа нет. Тот ее муж был инженер. Бил он Людмилу, дурак: говорил — от ревности. Врал. Савичев с ней друг у друга как на ладошке, даром что в два часа рабочий день кончается и ни он у нее, ни она у Савичева дома не бывали. Савичев ведь слышал, с кем Людмила тогда разговаривала по телефону: с тетей Симой, у которой росла, с двумя подругами — с одной кончала институт, с другой работала в сорок третьей больнице — и еще с ним, с бывшим своим Витенькой.
Просила, молила прокуренным голосом:
— В-витенька, милый, придешь, в-возьми обед в холодильнике, у меня операция… Да операция же, говорят тебе!!!
Когда Людмила перешла в этот роддом, ее на первые полгода сунули ординатором в нормальное послеродовое, а она болела одной хирургией — одной оперативной гинекологией, так точнее. В послеродовом никаких операций — одни обходы, и Людмила выплакала для себя то, что Савичев сам собирался выпросить: если «скорая» привозит кого-то в отделение Бороды для экстренной операции под конец дня, значит, — в ее руки. А ее руки — савичевским не чета.
И не угадаешь, откуда что берется. В нем — метр восемьдесят, Людмила — дай бог полтора. У него ладонь хоть и не такая, как у Главного, но все-таки настоящая ладонь и пальцы длинные. А у нее руки маленькие, коротковатые и ноги коротковатые: когда Людмила оперирует, санитаркам приходится подставлять ей самую большую скамейку.
И она, при чужих неразговорчивая — заикается и стыдится этого, — на операции от возбуждения тарахтит без умолку. О том, как за грибами ездила. Как Витенька ей глаз подсадил. Как в Меласе отдыхали и она дальше всех заплывала. Как над «Консуэло» ревела. О чем угодно тарахтит.
А глаза — в ране, а руки только мелькают.
Когда Савичев оперирует — он ничего оперирует, но все-таки молчит, кряхтит, присматривается, делает, переделывает. А Людмила будто и не примеривается, и все ложится у нее на место с лету, все сразу делается. То, что он — за час, Людмила — за половину. Ее рукам — савичевские не чета.
Кончит операцию и протокола не запишет ни в журнал, ни в историю. Только отмерит в истории место для протокола, чтоб завтра все записать. Поставит внизу: оперировала такая-то, ассистировал такой-то, операционная сестра Панова. И напишет назначения.
У ее бывшего Витеньки на работе день кончался тоже рано. И она неслась домой опрометью: только подскочит к зеркалу, не примериваясь карандашиком по бровям и векам, щеточкой по ресницам, помадой по губам, и — в дверь, и — в такси.
Не выдержала Витенькиных фортелей. Все-таки ушла. Снова у своей тети Симы поселилась.
На следующие полгода ее перевели к Бороде в гинекологию и потом оставили там еще на полгода, и хотя у Бороды тоже всего два ординаторских места и о том, чтобы пооперировать полгода как следует, мечтал не один Савичев, ничьего ворчания не было слышно.
Вот так. А теперь: «С-спаси, Саввушка!»
Пойдет она к Доре и к Бороде. Дора чертыхнется и исправит расписание, а Борода даст Людмиле отгул. Отгулов сейчас у всех накопилось немыслимое число, не отгуляешься.
Из роддома Людмила отправится на Кузнецкий, к парикмахеру Саше, которого знает пол-Москвы. Накрутит вороные сардельки из волос, сделает маникюр, полтора дня с лакированными ногтями будет устраивать жизнь. Послезавтра перед работой сотрет ацетоном с ногтей лак. Акушерам и хирургам лакированные ногти на работе запрещены их великим порядком, и Людмила сотрет лак независимо от того, устроит свою личную жизнь или нет. Но это — только если Савичев возьмет ее сутки.
«Ох, черт! Через сутки — сутки. А Лилька что скажет?..»
Савичеву десятка, то есть сотня по-прошлогоднему, а Людмиле — личная жизнь.
«С-спаси, Саввушка!»
Когда Савичев шел с Людмилой — они вместе вышли — от роддомовских ворот к автобусной остановке, им навстречу из-за угла вывернул на своем собственном сереньком «Москвиче» Главный. Вид у Главного был официальный — то ли оттого, что щурился на ярком дне, то ли был ему в горздраве, откуда он ехал, за что-то от начальства разнос.
За рулем Главный обычно делался каким-то неглавным, неофициальным, даже слегка потусторонним.
Своего «Москвича» Главный купил в пятьдесят четвертом — семь лет назад, еще когда работал на Урале и не был Главным.
Он купил его уже подержанным, а нужную сумму сколотил, преподавая на почасовых, дежуря сверх всяких норм по экстренной помощи и еще — на вылетах в санитарной авиации. Но тогда, семь лет назад, ему все же пришлось объяснять, что деньги на машину он сколотил именно таким образом, не иначе — не на абортах, которые в те годы были запрещены, но, конечно, делались, подпольно и за большие деньги.
К нему тогда, семь лет назад, прикрыв свою форму черным, почти что форменным драповым пальто, зашел домой очень рыжий и ражий милицейский капитан со знакомым лицом и прямо его спросил обо всем, и прямо ему сказал, что если бы он был терапевтом, а не акушером-гинекологом, никому бы в голову не пришло задаваться таким вопросом. А раз акушер-гинеколог, то, извините, пришлось, тем более работа, извините, такая. У каждой работы свои неприятные стороны: и у работы капитана, и у работы доктора (то есть Главного, который Главным тогда еще не был). Капитана, например, уже в неофициальном порядке, давно и крайне занимал еще один вопрос из докторовой, то есть Главного, работы: вот когда мужчина-гинеколог все время имеет дело с женщинами — ну, так, конечно, как доктор, — то влияет ли это на него, как на, извините, мужчину, в прямом смысле или в обратном, или не влияет, — вопрос этот, конечно, неудобный, но у них в отделе даже спор был в некотором роде по этому поводу. Доктор на этот вопрос может никак не отвечать, поскольку вопрос деликатный и неслужебный. А вот что касается служебного вопроса, то доктор в принципе волноваться не должен, так как все в порядке, только сигнал такой был, а капитан предполагал, что все в порядке, пришел больше, чтобы доктор все-таки имел в виду, какие сигналы иногда поступают, — ведь кругом люди всякие… Но это, конечно, строго между ними: если дойдет до кого следует, что за разговор у них был сейчас, — что капитану будет, доктор, наверное, понимает, не маленький. А сам капитан от доктора ничего, кроме хорошего, не видал. Доктор не помнит, наверное, — у него пациенток много было, — а вообще-то он капитанову жену оперировал и спас, а у капитана с женой — доктор не помнит, наверное, — двое, и оба мальчики. И еще — если о машине об этой, капитан насчет машин кое-что соображает, в армии-то он был техник-лейтенант в автобате… Так вот, если бы доктор купил бы новый мотор, так этот мотор можно было бы поставить на машину на автобазе, где капитанова жена диспетчером работает. Там еще можно договориться расточить цилиндры и поменять поршни, чтобы увеличить степень сжатия. Это ни во что, можно сказать, обойдется — это в любезность сделают: работу оформят официально, по твердой цене, — ну, разве доктор от себя поблагодарит немного тамошних слесарей, дак и необязательно это…