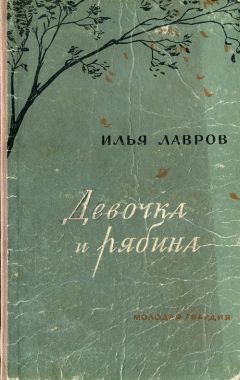— В этакой темени да в суматохе разве можно было за всеми доглядеть!
— Вот чертовщина! Прямо приехал за своей смертью!
— А кто знает, где она тебя караулит?
Среди толпы в одних трусах нелепо метался Чемизов. Он размахивал брюками, скрученными в жгут. Посиневшие губы дрожали.
— Товарищи! Надо же что-то делать! — умолял он. — Врача же нужно!
— А где его возьмешь!
Славка все это видела, слышала, но не могла уже ни крикнуть, ни двинуться. Она все ждала, что вот-вот Анатолий вздохнет, шевельнется. Она даже была уверена, что все кончится хорошо.
Ей вспомнился веселый, ловкий паренек. А у этого человека голова, руки, ноги болтаются, точно сломанные. Сейчас, сейчас они снова нальются силой, оживут...
Колоколова унесли под брезентовый навес, положили на груду веток и накрыли с головой плащом.
Славка села около него на скамейку, непонимающе смотрела на смутные очертания фигуры под плащом.
Ася, с лицом, распухшим от слез, принесла куртку, накрыла ее мокрые плечи, вытерла ее босые ноги и натянула ботинки. Славка будто и не замечала этого. Ася присела рядом.
Из палаток доносился смутный говор. Чемизов стоял недалеко у столбика, и дергающаяся рука его с трудом подносила ко рту горящую папиросу. Рядом с ним, сунув руки в карманы брюк, широко расставив ноги, стоял Петрович. Погруженный в думу, он, опустив голову, пристально смотрел в землю. У Грузинцева горела свеча, она залила палатку светом, сделала ее в темноте похожей на большой фонарь. На просвечивающей стенке четко виднелся силуэт хозяина. Он сидел на раскладушке, охватив руками лохматую голову. Сидел недвижно, окаменел...
Ася нередко слышала и сама иной раз произносила: «Буду помнить до конца своих дней». И вот только сейчас она поняла, что это такое «конец дней». И впервые ярко ощутила, что и ее жизнь кончится смертью. Это неотвратимо. Она представила, как на земле цветет, бушует жизнь, а она, холодная, лежит в земле. Ася с ужасом посмотрела на то, что было прикрыто брезентом. Сердце стало чугунно-тяжелым, заполнило всю грудь. Ася растерянно оглянулась, как бы спрашивая: «Зачем же такая несправедливость? Почему же жизнь кончается смертью?»
И еще она подумала: «Наступит такое время, когда нас и вот этот день будет отделять от живущих тысяча лет. От нас даже праха не останется. Все, кто сейчас живут на земном шаре, — все бесследно исчезнут. И думать о нас грядущие не будут. Вот ведь жили же люди тысячу лет назад, а мы о них и не думаем, и имен их не знаем, и не больно нам, что их нет и никогда не будет. Вот так и о нас никто не вздохнет. Не закричит от боли. И не почувствует, не представит, как мы горячо любили, как звонко смеялись, красиво пели, горько плакали...»
Ася изнемогала, придавленная этими мыслями.
Сегодня сестры поняли то, что им до сих пор не давала понять и почувствовать слепящая глаза шумливая юность. Они впервые столкнулись со смертью. И этот миг остудил в их душах то звонкое, птичье, что делало их беззаботно-счастливыми. И даже лица их стали взрослее, суровее...
Чувствуя непреоборимую, свинцово-тяжелую усталость, Славка с трудом поднялась и, опираясь на плечо сестры, ушла в палатку, повалилась на спальный мешок и мгновенно заснула, будто потеряла сознание. Близкий костер просвечивал палатку, озарял лицо Славки. Она спала с полуоткрытыми глазами, иногда резко дергаясь всем телом. Ее крупные, огрубевшие пальцы все время шевелились, как будто она что-то перебирала ими. Ася испуганно смотрела на темную половину полузакатившегося глаза. Так и казалось, что Славка следит за ней.
...Во сне Славка ясно услышала крик Анатолия: «Эх, удалые мои! Вперед!»
И неслись олени, и в клубах снежной пыли смеялось его лицо.
Она быстро поднялась, подумала: «А может быть, вся эта ночь только сон, бред после тяжелого маршрута?» Глянула на бледное лицо Аси, услыхала стук молотка и как-то обломилась в плечах, ссутулилась...
Все, что еще вчера имело для нее значение, сегодня стало ненужным и мелким. Ей противно было что-нибудь желать. Ей стало непонятно, почему она так рвалась к морю. И вообще, зачем оно? Собственная жизнь показалась ей конченной. Она не могла представить, как будет жить дальше. Она думала об этом, а в ушах все звучало: «Эх, удалые мои! Вперед!» И в клубах морозного пара смеялось лицо. И этот голос, и это лицо преследовали ее весь день. И даже когда геологи хоронили Анатолия, он все кричал ей радостно: «Эх, удалые!» Славке стало дурно. «С ума, что ли, схожу? Или это истерика?» — подумала она.
Все, что положено узнать человеку, узнали в тот день сестры, все, что могли вместить горького, вместили их сердца. И глубокая могила, и стук земли о крышку, и холмик с обелиском из досок — было все, что завершает жизнь человека.
Когда все ушли, а сестры остались у холмика на берегу лебединой протоки, Славка села на траву, закрыла глаза и опять в уши ей закричал радостный голос: «Эх, удалые! Вперед!» Славка испуганно открыла глаза. Это сюда они приплывали на заре. Вон и полувытащенная на берег старенькая, жирно просмоленная лодка. На дне ее в лужице с рыбьей чешуей лежала консервная банка — вычерпывать воду.
Вот и все, что осталось.
Славка встала, подошла к лодке и сильным ударом толкнула ее на середину протоки. Пусть их лодка плывет в те лесные, нехоженые края, которые он так любил. Пусть хоть она доплывет до них.
Лодка, чуть колыхаясь, медленно развернулась и тихонько поплыла.
Одинокая. Пустая.
Сначала она скользила едва заметно, будто нехотя, потом пошла быстрее и быстрее, а там, где кончался остров, ее подхватило течением и понесло.
Славка долго смотрела ей вслед...
Последние страницы о поэте
Лева Чемизов уезжал пасмурным, ветреным утром. Он торопливо и как-то неуклюже попрощался с сестрами, сунул им худую руку, даже неумело погладил, потрепал их волосы и вдруг, срываясь с подножки, полез в кабину. Зарокотал мотор, Чемизов высунулся в окошко и крикнул:
— С моря напишите! Обязательно напишите с моря! Больше мне ничего не нужно... Прощайте!
Ася никак не могла поймать его взгляд, он все отворачивался и, потирая лоб, загораживал лицо.
— Мы будем читать все-все ваши книжки! Будем заучивать все ваши стихи! — как можно ласковее крикнула Ася.
Лева спрятался в кабине, съежился, закрыл глаза. Грузовик зарычал, тронулся. Куда, к кому он привезет его? А в душе уже смутно зазвучали почти без слов какие-то стихи.
Дымились Удоканские гольцы, точно дышали вулканы.
Только через неделю усталый Чемизов добрался до дому. И всю эту неделю, в грузовике и в самолете, он думал о сестрах. И даже не думал, а все время ощущал их, как ощущают локтем рядом сидящего.
От заката все розовело, когда он лег спать. И только закрыл глаза, как в ушах зарокотал самолет. Сквозь дрему он почувствовал: с ним что-то произошло хорошее. Но что? Не понять!
Проснулся он от неимоверной печали, как будто похоронил кого-то. И сразу же подумал, что вот сейчас в таежной палатке спит Ася, а он уже никогда не увидит ее.
В открытое окно вползал шорох деревьев. С кромки тесного гнезда над окном сорвался сонный стриж, взвизгнул, захлопал крыльями, снова уцепился. На подоконнике в стеклянной банке пылали огненные кудри саранок, пахли полем.
Четырехэтажный дом был гулкий, точно огромная гитара: вот хлопнула дверь, будто грянул выстрел, внизу кто-то засмеялся — по всем этажам прокатился лешачий хохот, застучали в одну дверь, а открывать побежали во всех квартирах. Лева почувствовал: больше спать невозможно. Он включил лампочку. Оделся и вышел. Была полночь. Недавно побрызгал дождичек. Лампочка в комнате качалась, и через весь двор качалось отражение огромного окна с черными крестами от рамы и с черными кружевами от цветов на подоконнике.
Над городом витала смутная музыка: в парке играл оркестр.
Так и шли эти сутки безалаберно и странно. То он писал стихи, то, бросив их, готовил материал для газеты, не закончив его, ложился спать еще засветло и вдруг далеко за полночь просыпался и уходил из дому. Сам не зная куда. Возвращался он на рассвете и вновь начинал писать.
Чемизов любил ночные скитания по пустынным улицам. Он вышел в сырую, шуршащую тьму. И тут же налетело внезапное чувство светлой грусти и любви, налетело неизвестно почему, неизвестно откуда. Должно быть, эта сыроватая тьма что-то напомнила. Не тайгу ли в Каларах?
«Так... так... так...» — громко и отчетливо стучали капли в водосточной трубе. Влажный песок прилипал к туфлям. Откуда-то повеяло резедой, а показалось, что это пахнет песок.
В памяти ожили девочки-сестры на московском вокзале, а потом он увидел их на сопке. Засверкали оконца между камней, этот блеск вызвал в памяти вертлявую речонку в родной деревне. На берегу изба... Он пишет первые стихи, а вьюга дергает калитку... Он рвется к своему морю. Лева падает от усталости, а рука листает учебники. Пахнет овчиной и квашней. Храпит мать. Он пробивался к морю... Пробиваются и сестры... Как понимает он их!