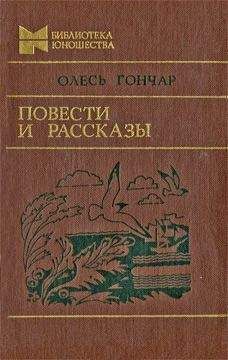Исчезает зеленая низина, проваливается в клубящемся дыму, немецкие артиллеристы беснуются, потому что из-за дыма им не видны советские танки, самолеты засыпают балку бомбами. Горький дым, волны ядовитых газов, как в отравленном море.
— Не видать, — скажет сквозь зубы один из тех, кто окопался на опушке, ожидая команды.
— Вот они! — скажет другой, более зоркий, разглядев в глубоком дыму первый танк, а за ним и другой, третий — танки сражаются в долине на самых тяжелых участках, мины взрываются на броне, оставляя пятна копоти там, где сидели десантники.
Тем временем новая группа танков, приданная батальону, с грохотом вырывается из лесу, вновь набирает десанты и мчится в дымную вьюгу, что ревет-бушует над лугом, когда-то зеленым и ровным. Тяжелые машины, надрываясь, одолевают гибкую трясину, солдаты сыплются с них и, пригибаясь, бегут вперед. Взрыв — все вокруг разлетается в клочья, раздаются стопы, кровавой росой покрываются высокие травы.
Исчезает за дымами населенный пункт, оставаясь только на карте, водитель прижимается лбом к триплексу[7], и в узкой смотровой щели перед ним качаются, словно плывущие по волнам, сады и хаты.
Потом все исчезнет, провалится, останется только непроглядный дым. Едкая рыжая тьма — ночь, такал неестественная после восхода солнца…
«Не видать», — подумает кто-нибудь на опушке, ожидая своей очереди.
А из леса тем временем вырвется третья группа танков, и танкисты, яростно бранясь, поведут их в рыжую взвихрившуюся тьму следом за первыми.
И тогда по команде встанет весь батальон, ожидающий на опушке, встанет и тот, кто первым сказал «не видать», и, сжимая винтовки, все кинутся вслед за машинами по высоким красным травам, сбивая кровавую росу.
Будет стремительная атака, бойцы, пригибаясь, будут исчезать за танками в адском грохоте, в смерчах огня, в рыжей непроглядной мгле.
Это будет первый день майского наступления 1942 года.
XIII
Переводчик «Иван Иванович» под строгим секретом сообщил Лялиному отцу, что на следующей неделе всех заключенных повезут эшелоном в Киев. То же самое — и также «строго секретно» — он сказал и родным остальных подпольщиков. Это было похоже на правду, потому что наступление под Харьковом разворачивалось в полную силу и в Полтаве уже начиналась лихорадка, так называемый «второй побег». В первый раз оккупанты бежали из Полтавы в феврале, когда советские войска взяли Барвенково и другие города. Теперь немцы опять засуетились в панике.
Для того чтобы спасти от отправки Лялю и ее товарищей, «Иван Иванович» предложил выход, который он считал единственно возможным. Он посоветовал родным встретиться с арестованными молодыми людьми и уговорить их признать себя виновными, покаяться, в частности отречься от того, что они были в комсомоле.
Переводчик уверял, что молодым людям вредит их «фанатическое упорство», раздражающее начальство; если же они послушают его совета, то наказание — с учетом их молодости — бесспорно, будет значительно смягчено. Все закончится тем, что ребят отстегают розгами, а девушки заплатят штраф. И тогда можно будет подумать о том, как откупиться от эшелона.
С ведома своего начальства переводчик устроил в жандармерии свидание, на котором родители должны были убедить детей и уговорить их немедленно покаяться.
В назначенный день Лялины родители празднично оделись, Константин Григорьевич взял жену под руку, и они вышли из дому, поддерживая друг друга. Тетя Варя проводила их за ворота. Она все время сокрушалась и ворчала.
— Как же вы будете ее уговаривать? — допытывалась она. — Признать себя виновной! В чем? Что ненавидит фашистов? Что комсомолка? Не понимаю, от чего тут нужно отрекаться…
Константин Григорьевич и мама были настолько убиты горем, что и не защищались от тети Вари, отвечали ей молчанием.
Грохот фронта был слышен в Полтаве даже днем.
Теперь полтавчане каждый день видели на улицах что-нибудь такое, чего еще вчера не было. Появились неуклюжие железные «ежи». Восточные окраины торопливо опоясывались противотанковыми рвами. Через город все чаще проносились машины с беглецами.
Зачинщиками бегства каждый раз выступал всякий сброд фольксдойчей, новоиспеченных бургомистров, переводчиков и обезумевших от страха переводчиц и, конечно, набрякшие от самогона полицаи, которые, услышав гул фронта, мгновенно срывались с прифронтовых районов и драпали в тыл. Тут их на дорогах встречали тыловые немцы, отбирали у них, как у контрабандистов, награбленное, грабя вторично, отпрягали коней, а тем, кто противился, неохотно выпускал вожжи из рук, давали в морду.
По селам было приказано косить зеленый хлеб. Ни у кого рука не поднималась на такую работу. В совхоз «Жовтень» шеф пригнал собранных со всего района полицаев и перехваченных на дорогах беглецов. Пока гудело — косили; как только ветер начинал дуть в другую сторону и гул, отдаляясь, затихал, шеф приказывал прекратить косьбу. Бросали косы и садились пить вонючий самогон. Сколько раз менял направление ветер, столько раз брались за косы и снова бросали.
Ничто лучше не характеризовало шаткость, неустойчивость оккупационного режима, как эта постоянная нервозность, эти сплошные приливы и отливы. Когда положение немцев на фронте улучшалось, в тыловые города, в том числе и в Полтаву, налетали, как воронье, разные искатели легкой наживы. Вся эта шваль принюхивалась, приглядывалась, примерялась, однако все время держа нос по ветру. И именно этот сброд был тем самым чувствительным флюгером, по которому сразу можно было заметить, какой ветер дует. Лишь только немецкая военная машина начинала трещать и разваливаться — сброд заполнял дороги, испуганно озираясь, расспрашивая о переправах через Днепр.
Так было и на этот раз.
— Побежали крысы с корабля, — говорил жене Константин Григорьевич, когда они шли через центр, где немецкие патрули задержали на перекрестке тачанку, в которой сидел какой-то крикливый, растрепанный комендант и его переводчица. Господина чиновника нещадно хлестали по морде.
Чем ближе подходили к десятой школе, тем медленнее шла Надежда Григорьевна. Несколько раз споткнулась и, схватившись за сердце, остановилась передохнуть. Ноги сразу увязли в горячем, размякшем на солнце асфальте.
— Душно, — изредка произносила Надежда Григорьевна.
— Держись, Надя, — глухо отвечал муж.
Свернули за угол, на зеленую Комсомольскую, и наконец увидели школу. На вышках, под грибками, маячили часовые. Окна верхнего этажа были открыты, немцы сидели на подоконниках, подставив солнцу голые спины. Там жила охрана.
Убийвовки, медленно ступая по асфальту, молча смотрели на Лялину школу. Сколько раз они ходили сюда на родительские собрания, на елки, на школьные вечера. Константин Григорьевич активно работал в обществе «Друг детей». Теперь, обнесенная проволокой, школа была непохожа на прежнюю, словно из нее вынули душу и вставили вместо нее эти омерзительные голые спины.
Перед зданием толпились родственники арестованных. Платки матерей и теток белели вдоль всей улицы под каштанами, рябые от теней и солнечных пятен.
На парадном крыльце уже стоял знакомый толстый переводчик в сорочке с манишкой и, увидев Убийвовков, сразу же повел их внутрь здания. Десятиминутное свидание состоялось в одном из пустых классов.
Конвоир ввел Лялю. За эти дни она стала еще тоньше и грациознее. Сдержанно поздоровалась с родителями, взяла мамину руку и уже не выпускала ее до конца свидания. Лицо девушки было ясное, озаренное спокойствием и уверенностью. Мать почувствовала, что дочь не нужно ни утешать, ни уговаривать. И она и отец забыли, для чего, собственно, шли сюда, забыли о советах переводчика.
— Ляля, — сказала мама, — а наши близко…
Константин Григорьевич начал оживленно рассказывать о мордатом коменданте, которого патрули только что избивали на перекрестке. Получалось довольно смешно. Ляля с некоторым напряжением улыбалась краешком губ под неотрывным взглядом матери. Уже в первую минуту встречи мать подумала о последней минуте, о расставании. И до конца свидания ее не отпускала эта ужасающая мысль.
— Говорят, что наши уже в тридцати километрах от Харькова, — весело рассказывал Константин Григорьевич дочери. — Если так и дальше пойдет, скоро будут в Искровке или в Чутове.
— На улицах поставили какие-то пугала, — добавила мама. — «Ежи» или как они называются, Костя?
— Это не «ежи», это уже паника, — пошутил Константин Григорьевич.
Не успели и опомниться — десять минут пробежали. Родители попрощались с дочерью довольно спокойно, словно вручали ее судьбу надежному и близкому человеку, как это бывает после свадьбы: теперь она принадлежала не только им. Как будто, оставаясь дочерью, она вступала в свою, одной ей понятную жизнь.