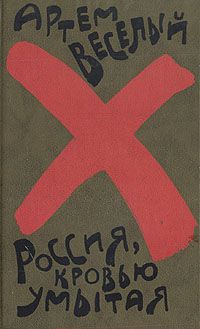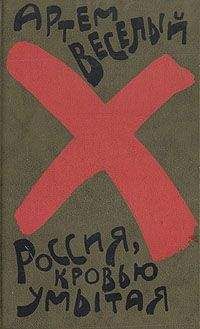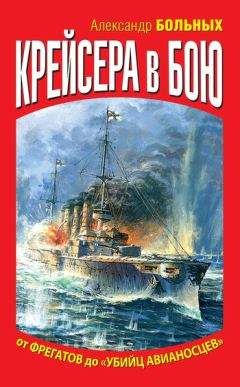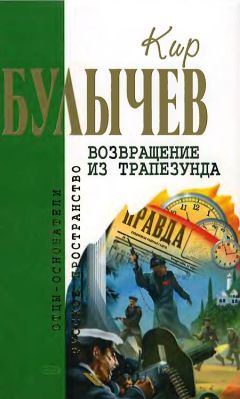Он опрокинул ковш на лоб. Услужливые руки протягивали ему огурец, корку хлеба, хрящ из осетровой головы. Площадь гремела:
— Ура батькови!..
— Будем панов бить, солить!
— Отдай якорь!
— Вира… Ход вперед.
— Гу-гу-уу…
— Спаса нет, капитал должен погибнуть!
— Хай живе отоман и вильное товариство!..
Крики схлынули, понемногу заглохли.
Все набросились на жратву. Некоторое время слышалось лишь чавканье, хлопанье пробок, звон посуды, треск разрубаемых тесаками мозговых костей, потом голоса загудели с новой силой, развернулась песня, полились бабьи визги да жаркий смех.
В церковной ограде за многими столами, застланными холстом под одно лицо, гуляли шахтеры.
Февральская революция блеснула над Донбассом, как далекая заря. Шахтеры на свою беду плохо разбирались в политических тонкостях. На митингах — проклятия и зубовный скрежет, обольстительные призывы и горы обещаний. Первые выборы дали меньшевикам и эсерам победу — они возглавили городские думы и рудничные советы, засели в профсоюзах. Чумазая сила опять была загнана под землю. Социалисты приступили к мирному сотрудничеству с промышленниками. Пока им удавалось выторговать у хозяина копейку прибавки, хлеб дорожал на пятак. Владельцы отсиживались в своих особняках. Конторщики по-прежнему обжуливали горняка при расчетах. Управители мозолили глаза, раскатываясь на заводских рысаках. Подтертое и разболтанное за войну оборудование предприятий не сменялось, а нормы выработки беспрерывно повышались. Наконец терпенье горняков лопнуло.
Зашумели забастовки.
Промышленники в ответ закрыли до трехсот рудников. Десятки тысяч безработных с лютой злобой в сердцах и с пустыми котомками за плечами побрели из Донбасса на все стороны. Но вот по всей стране хватила Октябрьская гроза. Шахтеры воспрянули духом. Генерал Каледин, по настоянию шахтовладельцев, прислал на рудники казаков. Шахтеры взялись за кирки и обушки. Началась гражданская война. Рабочие казармы и землянки наполовину опустели — дома оставались бабы да кошки. Работа на рудниках замерла. Сезонные шахтеры разошлись по деревням ковырять землю; другие утекли к Махно; иные пристали к красным отрядам Сиверса, Жлобы, Антонова-Овсеенко; немало чумазых увели за собой под Царицын Артем и Ворошилов… Вольная боевая артель под командой забойщика Мартьянова целую зиму воевала с казаками в верхнедонских округах и потом, спасаясь от немецких пуль, увязалась за бандой Черноярова…
Самогон цедили из бочат, черпали из ведер.
— Во! — сверкая из-под окровавленного бинта загноившимся глазом, размахивал кожаной шляпой пожилой шахтер. — Это жизня!.. Бывало, идешь мимо господской кухни и нюхаешь, как мясными щами пахнет, а нынче вот оно… Радуйся, душа, ликуй, брюхо!
К нему тянулись чокаться.
— Распускай пояса, наедайся про запас.
Винтовки были составлены в козла.
Пахло перегорелой вонью, исторгаемой переполненными желудками.
Два парня палили над костром насаженную на пику свинью.
Черные, проросшие грязью руки рвали куски мяса. Потные лица блестели довольством, по щетинистым подбородкам стекал жир.
В хатах огней не зажигали. В окнах смутно мелькали испуганные лица. Шайки барахольщиков бродили из двора во двор. Гостей встречал лай взволнованных собак, плач детишек, бабья ругань и причитанья.
Грохот в дверь:
— Хозяевы…
— Дома нету, — отзывается из-за двери дрожащий голос, — одна я с ребятишками.
— Оружие есть?
— Боже ж мой, да какое у меня оружие?..
— Отпирай… Обыск.
— Ратуйте, православные!
Дверь трещит и рассыпается под ударами прикладов.
— Говори, куда пулеметы спрятала?.. Где сундуки?.. — Придушенный шепот: — Гроши е?
— Откуда у меня грошам взяться?.. Я вдова, солдатка…
— Нам тебе под подол некогда заглядывать. Ребята, приступи…
— Карау-у-у-ул!..
— Тю!
Под железными пальцами хрустит бабье горло.
— Товарищи… Черти, у меня и мужа-то убили на германской войне… Почитайте документы.
— Мы неграмотны.
Из сундука летели праздничные юбки, сувои полотна, цветные платки и припасенное дочерям приданое.
— Ломи шубу!
— Не дам… Не дам шубу!
— Брось, баба, зачем тебе шуба?.. Тебя твоя толстая шкура греть будет.
Дом после обыска, как после пожара…
Из дворов выходили с узлами. Озираясь и пересвистываясь, убегали в свой табор.
Атаман, пошатываясь и шагая через пьяных, проходил по площади. Время от времени полной горстью он разбрасывал серебряные деньги и кричал:
— Хлопцы, все ли пьяны, все ли сыты?
Кто подносил ему чарку, кто лез целоваться.
Плачущие бабы ловили его за полы черкески:
— Шаль ковровую… Золото.
— Кто ж тебе виноват?.. Прятала бы дальше.
— Растрясли… Обобрали…
— Не наживай много, не отберут.
Старый казак Редедя повалился атаману в ноги.
— Сынок… Ваня… Овес выгребли, двух коней с бричкой угнали…
— Ограбили? — спросил он, тронутый горем старика, и, выдернув из-за пояса наган, сунул ему в руки. — Иди, Сафрон Петрович, и ты кого-нибудь ограбь.
Кругом заржали.
Атаман искал Машку и нигде не находил ее. Неожиданно в стороне, за церковной оградой, послышался знакомый смех.
Атаман остановился, повел ухом…
Потом влез на ограду и, придерживая шашку, прыгнул в темноту. Из-под куста, ахнув, выпорхнула, как куропатка, растрепанная Машка Белуга. За ней поднялся, отряхиваясь, черноусый шахтер, в котором атаман узнал пулеметчика Лященко.
Иван, нахлобучив шапку, точно готовясь к драке, шагнул к своей подруге:
— Ты что ж, трепки захотела?.. Да я из тебя, змея гробовая, требуху вырву.
Машка попятилась:
— Я тебе не наймичка… Я сама себе вольная.
— Цыма, сука семитаборная! — бешено закричал атаман, хватаясь за кинжал. — Гайда за мной!
— Дудки…
Сверкнул кинжал, пулеметчик на лету поймал кинжал за лезвие и сломал его: в руке атамана осталась одна рукоятка. Шахтер загородил Машку и поднял кулак:
— Отнюдь!
— Ты… в чужое дело не тасуйся.
Они сцепились и оба рухнули на землю.
Девка завизжала.
Набежали партизаны.
Дерущихся разняли, пообрывали с них оружие. Шахтеры приняли сторону своего товарища, солдаты и матросы горой встали за атамана. Готова была вспыхнуть всеобщая потасовка, когда подошел командир шахтерской роты Мартьянов. Повелительным окриком он приказал своим людям разойтись. Шахтеры не выдали Машку и, усадив ее за свой стол, наперебой принялись угощать, подсовывая лучшие куски.
Атаман, оставшись с адъютантом с глазу на глаз, сказал:
— Шалим, приготовь за станицей две тачанки… Вымани лярву от этих коблов… Когда все будет готово — доложи… Я разорву ее лошадями.
Потянуло Черноярова домой. Захотелось хоть одним глазком глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям. Весь вечер поджидал, что явится кто-нибудь из домашних и позовет его. Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался.
Окна были прикрыты ставнями, ворота на запоре.
Постучался… Сердце колотилось в ребра…
С хриплым лаем кинулись собаки… Калитку приоткрыл работник Чульча и, не узнав спросонья молодого хозяина, преградил ему путь. Не в состоянии выговорить ни слва, Иван оттолкнул калмыка и, отбиваясь от собак плетью, перебежал двор.
В сенных дверях его встретил сам Михайла.
— Батяня…
— А-та-та…
Иван сунулся было целоваться.
Старик оттолкнул его в грудь и хотел закрыть дверь, но сын уже протиснулся в сени.
— Ты так-то, батяня? — глухо спросил он и пьяно икнул.
— Серый волк тебе батяня, огрыза собачья… Осрамил на всю Кубань… Отец с наградами да грамотами службу нес, а сын — разбойник…
Иван промолчал и прошел в горницу.
По лавкам, вдоль стен, сидели старики — Карпуха Подобедов, Трофим Саввич Маслаков, Селенкин, братья Чаликовы.
— Здорово, казаки, — неласково сказал вошедший.
— Поди-ка, добро пожаловать… Здоров будь, атаман молодой…
В голосах угадывалась насмешка.
У Ивана зашумело в ушах, злоба комом встала в горле. Огляделся… Коптила привернутая лампа. Старые, в дубовом окладе, стенные часы, выпустив всю цепочку, стояли. Стол был завален немытой посудой. Домашних нигде не было видно.
— Где же… все? — спросил он отца.
— А тебе кого надо?
— Ну, брательник?.. Бабы?
— На улицу побежали, твоими молодцами любоваться… Меня, как старого кобеля, домовничать оставили, а я тоже не прочь бы подивиться на твой балаган…
— Живы?
— Кашляем… Бог смерти не дает.
— Не ждали?
— Все глаза проглядели, — качнулся доводившийся Чернояровым дальним родственником рыжебородый Селенкин и всхлипнул — Ваня, не срами ты наш род-племя, не иди за этими городовиками: они босяки, самая голота, а ты ж казак, наш родный казак…