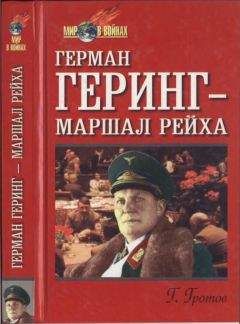Реакция начала деятельную подготовку к мятежу. Наступали дни открытого террора.
Много думалось за последние дни. Иногда Вера ловила себя на мысли, что в жизни ее назревают какие-то большие, серьезные перемены, и она начинала гадать: хочет ли она их, этих перемен, или же боится. Потому что в жизни, в работе все у нее было налажено и ясно, все так же ждала писем от Андрея и все так же не хотела написать ему первой. Время от времени вызывал ее к себе Насонов. Она приходила к нему в кабинет, он с кряхтением ложился на диван, задрав на могучей конопатой спине широченную льняную рубаху, и она сразу же находила на его пояснице болевые точки. Он поругивался тихонько, нетерпеливо вертя тяжелой головой, и мирным голосом просил следующий больничный лист, потому что предыдущий уже закончился. А она доказывала ему, что надо лежать в больнице и лечиться, а не заставлять ее нарушать законы. И тогда он садился на диване и начинал дотошно спрашивать ее — больной он или же симулянт? И она подтверждала, что он действительно болен, и тут, в одном и том же месте разговора, он торжествующе хмыкал и вставал:
— Вот так, доктор, значит, по закону и действуй: мне больничный, а тебе оправдание.
И дальше ему говорить что-либо было совершенно бесполезно, потому что он начинал бегать по кабинету, кричать, что это не ее дело — давать ему советы, что идет уборка и он, хотя находится на больничном уже месяц, ни одного дня не пролежал в постели, а что до бумаги, то это сам решает, как ему быть: хочет — работает при наличии больничного в кармане, хочет — лежит в постели.
Однажды она встретила его по возвращении с поля, злого и потного, за рулем покрытой пылью «Волги». Он остановился возле нее, вылез из машины:
— Ну, жизнь как?
— Как обычно, — сказала она и подумала, что вопрос этот для председателя не совсем обычный, что, видимо, Насонов хочет вести разговор о чем-то другом, более важном и просто не знает, как подступиться к нужной теме.
Так и вышло. Насонов покашлял по своему обыкновению, поглядывая по сторонам с прищуром, потом вдруг сказал:
— Ты как с Владимиром Алексеевичем, в ссоре? Не помирились?
Она ответила дерзко, что-то вроде, что не обязана отчитываться перед ним в личных своих делах, а он вдруг крутнул головой сокрушенно и сказал совсем непривычным просительным голосом:
— Ты молодая, вот как… Ничего не понимаешь. Ежли я с больничного выйду — тут и бюро. И выговор вклепают. А с другой стороны — полевые работы. Как же тут без меня? Ты меня пойми. А пока я с больничным, меня на бюро слушать не будут. А так и время пройдет, глядишь, помягчают. Не будут осуждать, коли с больничным? Порядок такой… Негуманно больного человека травмировать. Обижаться на меня за вопрос мой не надо тоже. Он же после того, как ездить сюда перестал, злющий. Переживает, видать. Ох, девка, глупость порешь, ей-богу… Такой жених.
Он не стал слушать ее сбивчивых торопливых речей, сел в машину и укатил в сторону правления, оставив за собой пыльное облако.
Как-то, роясь в своих бумагах, нашла она одно из последних писем Андрея. Вчитывалась в строчки, написанные мелким бисерным почерком. Надо бы съездить в Славгород, позвонить ему оттуда. Просто так, может быть, даже обратиться с какой-либо просьбой… Ведь Насонов обещал кое-что из денег для покупки медицинского оборудования. Что это за больница, в которой нет элементарного? Зубной кабинет без инструментов. Обходятся старенькой бормашиной и тем, что привозит с собой на прием стоматолог из райцентра. А если б все было на месте? Пора бы и рентгеновскую аппаратуру завести… А то районная передвижка — это не дело. Только снимки можно делать, а скопию лишь в райцентре. Конечно, Андрей ни в чем этом не поможет, но ведь это повод для разговора. Повод.
Идея постепенно овладевала ею все основательнее, и вот уже она обдумывает не то, о чем скажет, а то, как скажет. Вначале она будет по-деловому строга и немногословна. И уж потом, если он начнет извиняться за свое молчание, просить у нее прощения, тогда уж… В конце концов, у нее есть возможность съездить в отпуск. А вообще странно, она совершенно по-разному ведет себя с Андреем и Рокотовым. Первому сама звонить хочет, а второму не позволяет даже видеть себя. А ведь Рокотов гораздо приятнее, это натура, характер… Чепуха… Если она сделает какой-либо шаг, он может подумать, что она ждет не дождется момента, когда станет женой первого секретаря райкома… Если б он был простым рядовым инженером… А может быть, это и лучше, что Андрей перестал писать? В конце концов, что она о нем знает? Ничего. Ну, приятный человек, ну, видимо, хороший врач. Разве этого достаточно, чтобы делать какие-либо выводы?
Так бежали для нее дни, заполненные заботами, тревогами, сомнениями. Однажды видела она издалека Рокотова, проезжавшего в машине вместе с Лебедюком. Ехали они на ток. И она вдруг почувствовала, что ей хочется увидеть Владимира, просто увидеть, и все, лучше, если б он ее при этом не заметил. Она даже сделала попытку забежать домой и переодеться, чтобы не выглядеть слишком неприглядно, но потом вспомнила о том, что даже если он ее не увидит, то увидят односельчане, а языки бывают всякие, в том числе и злые. И она вновь вернулась к столу во дворе, на котором гладила недавно постиранные занавески, ругая себя за то, что позволила окрепнуть внезапно мелькнувшей мысли. А тут еще остыли угли в утюге. Сплошные неприятности.
И на душе было неспокойно, и это выражалось в том, что ей все время хотелось позвонить Андрею и сообщить, что она помнит о нем, и еще сказать ему, что у нее скоро отпуск, вернее, не скоро, а в любое время, когда она захочет. То ей внезапно казалось, что должна немедленно ехать в Васильевку и позвонить Рокотову, чтобы просто объяснить, почему она не может выйти за него замуж. Именно объяснить, потому что говорила она с ним ужасно грубо и он даже не смог найти слов, чтобы ответить ей. Он был поражен. Она перед ним виновата, это точно, потому что если даже не судьба быть им мужем и женой, то хоть людьми, уважающими друг друга, они могут быть. Если они встретятся, она должна сказать ему об этом, признаться в том, что поступила грубо.
Как-то вечером баба Люба, накашлявшись весьма многозначительно в своей комнатке, пришла к ней. Вроде бы за делом пришла, принесла только что надоенного молока. Сказала будто про себя:
— Секретарь партийный опять в колхозе… Вместе с Насоновым около пруда ходют. Шла бы будто невзначай…
— Не пойду, бабушка… Не нужен он мне.
— Так ли? — голос бабы Любы вдруг зазвучал язвительно, она даже руки в бока уперла. — Так ли, милка? Что ж ты мне думаешь глаза затуманить? Так я в этих делах кое-что смыслю… Сама ведь места себе не найдешь, а признаться, что дров наломала, — не хочешь. Вообразила. Да другая б за такого человека бегом побежала. В вековухах застрянешь, гляди, девка. А он мужик с головой, сурьезный. Давеча узнала в районе: по бабам да молодицам не шляется. Где такого по нонешним временам сыщешь? О-о-х, с жиру все это, с жиру.
Ну и баба Люба… Оказывается, не в больницу в район ездила, а за сведениями. То-то она ретиво доказывала ей, что не доверяет как врачу, не считает ее авторитетом для себя, потому что знает ее смалечку, видела, как нынешний доктор подолом нос вытирала. И выдюжила тряскую автобусную езду в жару немалую, только чтоб самой к мнению прийти какому-то. А коли пришла, теперь и в наступление можно.
И Вера не выдержала тогда. Быстро оделась и пошла по улице, придумав наскоро, что хочет в библиотеку заглянуть, узнать, как с медицинской литературой новой, хотя знала сама, что это не так, что в библиотеку заходила два дня назад, и если б было новое — уж библиотекарша наверняка бы прибежала. А в сторону ив и пруда не смотрела и все ж заметила, как от дальнего угла пруда ушла рывком на трассу знакомая кургузая машина с запыленным брезентовым верхом. А потом вырулил на улицу в своей «Волге» Насонов и укатил в сторону правления.
Если признаться себе искренне, то Веру тогда взбесило демонстративное невнимание Рокотова. А еще замуж выйти предлагал? Да он просто равнодушен к ней… Обычные мужские штучки. Изображает из себя влюбленного, а сам только и думает о других делах. Видите ли, заметил, что она идет в его сторону, и сразу убегать.
До вечера она думала о том, что нужно как-то заявить о себе. Заявить и уйти, обязательно уйти, чтобы он не подумал какой-либо чепухи. И, сидя в сумерках у себя в кабинете, подумала, что ей очень хочется просто услышать его голос. Телефон был рядом, и она набрала номер и сквозь ленивые гудки слушала отрывок из какого-то концерта с развязным бормотанием конферансье и восторженным уханьем зала. А потом положила трубку и долго глядела на красные облака у горизонта, на солнце, наполовину ушедшее в землю; оно было неяркое, лучи его косо скользили по верхушкам деревьев, и вокруг была такая тишина, что казалось, даже давила в уши. Она полистала бумаги по профилактическим прививкам детям… Цифры были маленькие, куцые, и она подумала о том, что это насоновская идея насчет колхозной больницы. А что это за больница, если в ней всего лишь один врач и три фельдшера да пятеро нянечек с медсестрами. Остальные врачи отказались переезжать в село и посещают приемы из райцентра. Благо, что близко. А в больнице почти всегда пусто, потому что с малыми болячками люди норовят перележать дома. Иногда Насонов просит у нее разрешения на ночевку в больничной палате кого-либо из поздних своих гостей, и она разрешает, потому что ей стыдно становится за несмятые простыни и новенькие одеяла. А вот осенью в небольшом больничном домике становится шумно: появляются радикулитчики, желудочники, ревматики… И тогда каждое койко-место — проблема. Насонов пишет ей записки, а она кладет не тех, кого он просит, а потом ругаются. И вообще она здесь совсем не нужна. Разве только помогать Анне Максимовне, акушерке, прожившей в селе вот уже более двадцати лет, принимать нечастые роды.