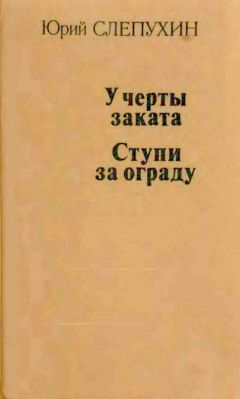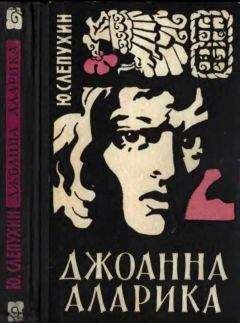— Ага, даже так…
— Даже так. Вы ведете искусство по очень скверному пути, делаете его инструментом разложения… И ни к чему хорошему не придете, помяни мое слово. Кончиться это может очень скверно.
— Например?
— Я не пророк, Туха, и не собираюсь ничего предсказывать. Я знаю только одно: провозгласить смыслом искусства, его основной задачей отражение «сверхреальности» человеческого подсознания — это значит убить искусство. Или сделать его орудием убийства. Морального убийства, что, на мой взгляд, гораздо хуже физического. Весь этот ваш бред, замешанный на эротике…
Он поморщился и угрюмо замолчал.
— Ах ты мой чистый голубок, — сказал Туха, — эротика тебя шокирует?
— Нет, просто я не вижу, при чем тут искусство.
— Тем хуже для тебя! Тогда ты вообще не художник, а старая дура из Армии спасения. Эротические мотивы присутствуют в сюрреалистической живописи просто потому, что в подсознании половая сфера…
— Да знаю я, — отмахнулся Жерар, — что ты мне лекции читаешь. Читал я и Фрейда, и Юнга, и всех ваших апостолов. Но при чем тут искусство? — Он пожал плечами и потянулся за миндалем.
— Значит, ты собираешься воспитывать человечество, — ехидно сказал Туха. — Ну что ж, желаю успеха. А нам на это плевать! Мы исходим из основной предпосылки: человек никакому воспитанию не поддается, доминируют в нем животные инстинкты, и нет силы, которая смогла бы это изменить. Религия, социальные эксперименты — все это игрушки для дураков. Поэтому мы и отражаем внутренний мир человека таким, как он есть, без стыдливых недомолвок. А на твою «воспитательную функцию» мне плевать, я не учитель из приходской школы. Вот так.
— Понятно, понятно, можешь не продолжать…
Жерар закурил и с минуту молчал, следя за уплывающими в окно струями дыма.
— Все это мне давно известно, — сказал он наконец. — В том и беда, Туха, что искусство по-прежнему оказывает на людей большое влияние… И я просто боюсь думать о том, какие результаты может дать ваше. У меня сейчас одно утешение — что я, очевидно, сдохну раньше, чем смогу увидеть плоды вашей деятельности во всей их красе…
Он поднялся и подозвал мосо, чтобы расплатиться.
— Уходишь? — спросил Туха.
— Да, мне пора. И вот что я тебе скажу: оставляя в стороне личность, вы все — сволочи. Во что вы хотите превратить мир? Мало вам еще нацистских лагерей, мало вам Хиросимы?
Он сунул в карман трубку и, не попрощавшись, пошел к выходу.
Не нужно было вообще говорить с Тухой на эту тему, а уж спорить и подавно! У каждого свой вкус. Но почему этот болван решил, что он — Бюиссонье — вообще отрицает все авангардистские течения? Что за бред, черт побери. Как будто Пикассо не авангард, как будто не был авангардистом Ван-Гог, как будто Микеланджело не поносили за неканоничность «Давида»… Истинное искусство всегда творится авангардом — но опять-таки истинным, а не псевдо! Если Сезанн умышленно ломал перспективу, то это не значит, что сегодня любой неуч может объявлять свою мазню «новым словом» — у меня, дескать, тоже все вкривь и вкось…
В этом все и дело — слишком многие примазываются сегодня к авангарду. А поиск в искусстве должен быть настоящим поиском. В конце концов, тот же абстрактивизм сам по себе не обязательно плох… Ты можешь его не понимать, можешь пожимать плечами, но факт остается фактом — иногда известное сочетание фигур и красок, каким бы беспредметным оно ни казалось на первый взгляд, может отлично передать состояние человека, его восприятие окружающего, может затронуть очень глубокие струны в душе зрителя. Здесь живопись начинает уже действовать подобно музыке, вторгаясь непосредственно в область подсознательных эмоций и не вызывая зачастую никаких предметных представлений. Ты сам никогда не станешь писать в этой манере, но если у других это получается — и получается талантливо, — то почему бы и нет? Если уж отрицать эту форму искусства, то тогда нужно отрицать и многие виды музыки. Но сюрреализм, эта вывернутая напоказ душевная патология…
Хриплый рев музыки оглушил Жерара, он досадливо поморщился и оглянулся. Вынырнувший из-за угла автофургон с громкоговорителем на крыше медленно продвигался в потоке других машин, оглашая улицу бравурными звуками партийного гимна «Ребята-перонисты». Потом музыка оборвалась, и громкоговоритель заорал сорванным голосом:
— Граждане, друзья descamizados[23], послезавтра — в День Верности — все на Пласа-де-Майо, на встречу с лидером! Генерал Перон выполняет свой долг перед вами — выполните ваш долг перед Пероном! Перон выполняет! Да здравствует Семнадцатое октября — День Верности, день единства народа и его лидера! Перонистская партия, единственная подлинно народная партия Аргентины, призывает всех честных граждан Республики еще теснее сплотиться вокруг Генеральной конфедерации труда и генерала Перона! Перон выполняет! Да здравствует Перон!
— Ола, Бюиссонье!
Кто-то с размаху хлопнул его по плечу. Жерар обернулся.
— А, еще один коллега. Салюд, Маранья. Как живешь?
— Ничего, старик. Почему — еще один? Ты кого-нибудь видел?
Снова загремел марш. Мужественный голос запел: «Мы ребята-перонисты, нас Перон ведет к победе, если нужно — жизнь свою мы за Перона отдадим…»
— Узнаешь голосок? — подмигнул Маранья вслед удаляющейся машине. — Уго Дель-Карриль, звезда экрана. Да, можешь говорить что хочешь, а парень одной этой пластинкой сделал себе состояние — и политическое, и в звонкой монете. Ну, черт с ним. Так кого из наших ты встречал?
— Почти два часа просидел с Тухой, — усмехнулся Жерар, — Тебе куда, к Обелиску? Пошли.
— А-а, маэстро Орасио Туха, восходящее светило сюрреализма. Два часа, говоришь? Я с ним десяти минут не выдерживаю. Бюиссонье! Я всегда был другом Франции. Веришь?
— Верю.
— И горячим, восторженным поклонником французского искусства — во всех его видах и жанрах, от Расина до «Мулен-Руж»…
— Не продолжай, я уже уловил твою мысль. Сколько тебе нужно, восходящее светило ташизма?
— Пятьсот? — неуверенно спросил Маранья.
— На твое счастье, такая сумма у меня наберется.
— Правда? Вот это мужской разговор! Думаю, что к Новому году смогу вернуть.
— Только не нужно уточнять, к какому именно. Держи, старина.
— Мерси, — небрежно поблагодарил Маранья, засовывая деньги в верхний кармашек пиджака, где порядочные люди обычно носят платок. — Чем же мне тебя отблагодарить?.. А, знаю! Скажи-ка, Бюиссонье, ты эстет?
— Утонченный, parbleu! Сплошные эмали и камеи. А что такое?
— Если хочешь получить подлинное эстетическое наслаждение, шпарь бегом на Авениду-де-Майо. Где галерея «Риго», знаешь? Там рядом кафе — так вот, за крайним столиком сидит самая феноменальная девочка федеральной столицы! Я ее немного знаю, раньше она бывала в нашем змеятнике, но что-то давно там не показывается. Наверное, хорошо пристроена. Это что-то совершенно… — Маранья коротко простонал, зашатался и, закатив глаза, поцеловал кончики пальцев. — Пойди взгляни на нее! Посмотри на ее волосы и, если ты решишь, что они крашеные, можешь разыскать меня где хочешь и плюнуть мне в глаза. Или отобрать назад пятьсот национальных.
— Ты имеешь в виду рыженькую Монтеро, натурщицу?
Маранья прервал свои восторги:
— Ты ее знаешь?
— Немного. Прости, старина, я пошел…
— Куда? Да ты погоди…
Но Жерар уже торопливо шел по улице, расталкивая прохожих. Едва услышав, что Беба здесь, в городе, он сразу же понял, как хочется ему сейчас побыть с ней. Даже ни о чем не говорить. Просто посидеть рядом, слушая ее милую болтовню о пустяках. Это было ему сейчас просто необходимо — сейчас, после разговора с Тухой, оставившего в душе мутный осадок какой-то безнадежности, после встречи с автофургоном субсекретариата пропаганды, после разнузданного хриплого рева из репродуктора и бодрого пения Дель-Карриля…
Подходя к кафе возле галереи «Риго», он издали увидел головку Бебы. Она сидела к нему спиной, в своем сером костюме; столик был одним из крайних, и солнце, начиная опускаться к куполу Конгресса, уже забралось под тент, ослепительно осветив ее волосы. Она была не одна — напротив сидел незнакомый Жерару молодой человек с ястребиным худым лицом типичного южноамериканского склада. Юноша — «Жерару он показался очень молодым, лет двадцати пяти, не больше, — говорил что-то быстро и негромко, не спуская глаз со своей визави. Беба сидела в немного напряженной позе, выпрямившись и, судя по повороту головы, глядя куда-то в сторону. Едва увидев все это, Жерар почему-то сразу понял, что между Бебой и незнакомцем происходит какое-то объяснение.
Конечно, разумнее было бы уйти, но он, сам не зная для чего, медленно подошел к столику. Почувствовала ли Беба его присутствие или просто перехватила раздосадованный взгляд своего собеседника, но она обернулась и ахнула: