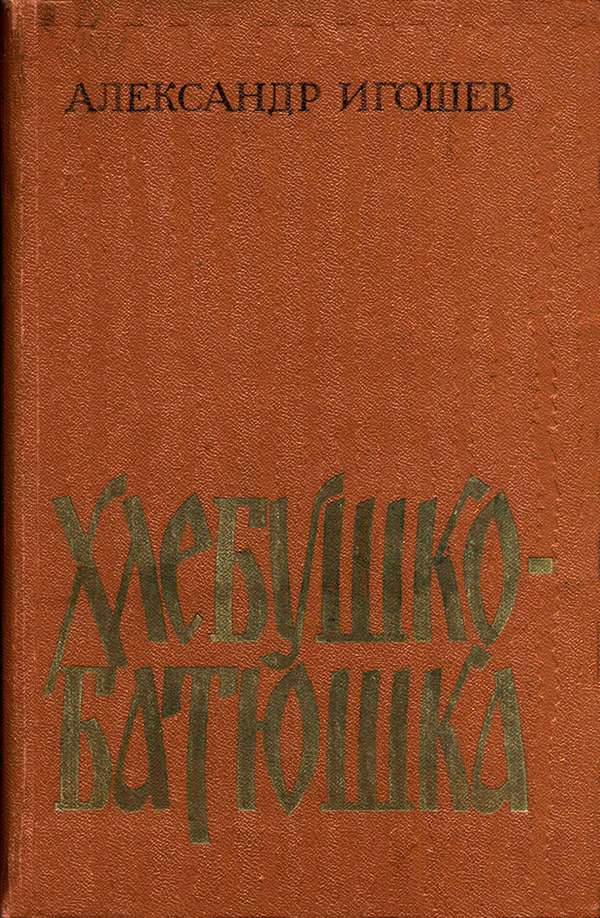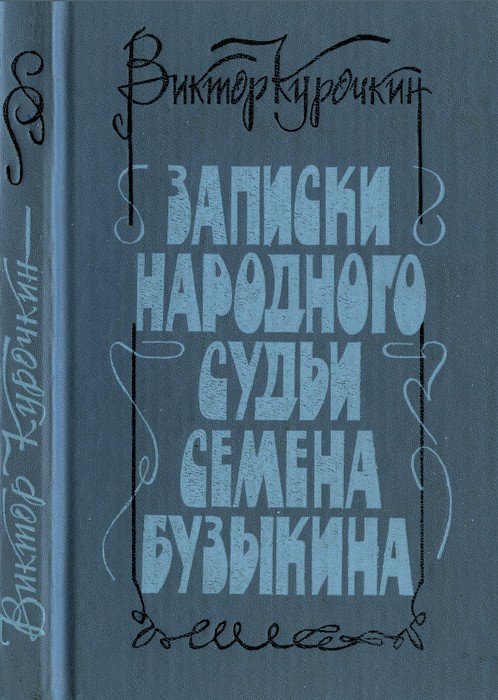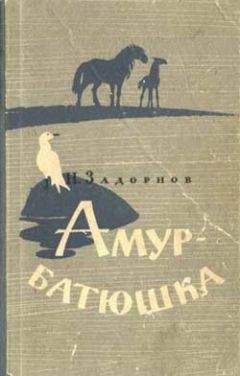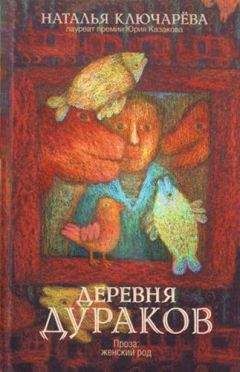будет; год прошел в напрасном ожидании, и не паниковать, как Чухонцев, надо, а трезво оценить свои ошибки, чтобы не повторить их в новых опытах в будущем году. Он покусывал губы и глядел на клевер…
— Николай Иванович…
Чухонцев ушел. На участке он и Виктор.
— Чего тебе?
— Я насчет работы.
— Что, не выдержал? Слабо? Бежишь от Чухонцева? При первой же неудаче… — Николай Иванович оглянулся во гневе.
— Мне нечего делать у него.
— Как это нечего? Мог бы помочь найти причину неудачи.
— Она известна.
Виктор напорист, но подождал, пока Николай Иванович не подтолкнул его сам:
— Ну?
— Он не сказал вам самого главного. Никакого особого клевера не было и нет. Чухонцев вырастил его с помощью нового удобренья с химкомбината. Он все эти дни пропадал там, улаживая свои дела. У них есть свои счеты, но в том разберутся они сами.
— Вот как! — вырвалось у Николая Ивановича.
— Он виноват только в том, что не сказал вам этого.
— А ты, парень, смел. Мне это нравится. — Николай Иванович подобрел к нему.
— Зачем обманывать себя и вас.
— Сам ты докопался или кто помог?
— Люди подсказали.
— Куда же мне определить тебя теперь? — задумался директор станции.
— У меня есть тема. Я вынашиваю ее давно. Способы обработки земли и влияние их на урожайность.
— Но это давным-давно известно всем.
— Известно, да не изучено. Тут могут быть самые неожиданные повороты. Вспомните Мальцева и его безотвальную пахоту.
И Виктор рассказал, как еще в институте он стал собирать материал. Дело оказалось интереснейшим. Издавна земледельцы копают землю, пашут ее, культивируют, боронят; случайно открывали какие-то новые способы, урожайность подскакивала, но проходило время, способы эти забывались; все оставалось как сотни и тысячи лет назад — та же вспашка, то же боронование, тот же принцип заделки семян. Но ведь существуют в природе и какие-то другие способы. Взять хотя бы опыты агронома Вязникова…
Виктор ждал, что ответит Николай Иванович. Поднялся ветер и прошелся с приплясом по клеверу. Трава наклонилась к земле и выпрямилась, звонкий шелест пролетел по участку. Виктор подставил ветру разгоряченное лицо. Ветер был свеж, тонкой прядкой вплелось в него дыхание недалекой уже осени.
— Вот что, — сказал Николай Иванович. — Ничего я пока не могу тебе обещать. Давай вернемся к этому разговору позднее. А сейчас беги к косцам, скажи, чтобы скосили этот клевер.
Вечером Виктор в Давыдкове еще издали увидел Тальку. Собирался дождь. В легкой куртке и в платке Талька прохаживалась у сосен; останавливалась, глядела куда-то вдаль, сунув руки в карманы. Она не кинулась ему на шею, не обняла как бывало. В глазах — холодок… Ничего не объясняя, Талька повела его к Даше. Когда пришли, коротко сказала:
— Тут я теперь живу.
Виктор все понял.
— Ушла из дома?
— Ага, — она кивнула.
— Завтра же распишемся и будем жить у нас, — решил Виктор.
— Не очень-то спеши, Витя. Чего загадывать загодя? Утро вечера мудренее, — проговорила Талька.
— Ты чего? — удивился Виктор. — Какая муха тебя укусила?
Она промолчала.
После ужина Даша постелила им в горнице. Талька легла, обняла Виктора, зашептала ему в ухо:
— Витя, ты не бросишь меня? Не оставишь?.. Ведь я забеременела… Страшно-то как. Не бросай меня. Грех тебе будет. Мать примет меня обратно, я знаю. Она с характером и отходчивая. Ты меня ведь не оставишь? Без тебя мне не жить. Ты пойми это.
— Что ты? Что ты? Зачем так говоришь?
— Боюсь я, Витя. Сразу все как-то. Растерялась…
— Все будет хорошо.
Он целовал ее в губы, в глаза, в щеки. Глаза были мокрыми, и щеки тоже мокры. Виктор губами обирал соленые слезы. В сердце разливалась нежность к Тальке. Ее беззащитность и ранимость рождали в нем мужскую силу. Мир вдруг открылся ему многими своими сложностями и неизвестными сторонами. И чтобы разобраться в них и постоять за Тальку и за себя, нужны характер, сила, воля и упорство. Виктор прижимался к Тальке, слышал, как вздрагивает в его руках гибкое, как лозина, женское тело, и чувствовал, как он становился сильней.
1
Газеты со статьей Николая Ивановича появились на станции и в институте почти одновременно, и приглохшие было разговоры о специализации разгорелись с новой силой.
Богатырев, прочитав статью, утром с газетой в руках прибежал к Николаю Ивановичу. Ткнув в статью пальцем, спросил:
— Это что же, ты не согласен с руководством института?
— Не согласен, — дерзко и весело ответил Николай Иванович, повязывая перед зеркалом на шею пестрый галстук. — Дорогой мой, разговоры о новой станции — это не решение вопроса. Я, как видишь, пошел напролом. Сломаю себе шею? Ну что ж…
— Да, наломали мы с тобой дров. — Парфен Сидорович в сердцах бросил газету на стол.
— Ты-то тут при чем? — сказал, оглядываясь, Лубенцов.
Он никогда не видел Богатырева в таком расстройстве, подошел и дружески похлопал его по спине:
— Не унывай. Моя вина — мой и ответ. Так я и скажу Михаилу Ионовичу, за твоей спиной прятаться не буду. Хотя вины за мной никакой нет.
— Не чувствуешь? Это-то и плохо.
— Славный ты человечина, Парфен Сидорович, а того не понимаешь, что не о себе я думаю, а о тех десятках и сотнях тысяч гектаров лугов, которые уже сегодня требуют коренного улучшения.
В новом черном костюме, в белой рубашке, с большим и широким, лопатой, галстуком Николай Иванович выглядел моложаво. Богатырев, чего с ним никогда не бывало, накричал на Николая Ивановича:
— Ты погоди радоваться! Рано возликовал! Мужики знаешь как говорят? Хвали траву в стодоле, а не ту, что в поле.
— Мужики и не то еще говорят: корми коня жданками, он воза не потянет, — нашелся Николай Иванович. — С вами дождешься, что нужное дело, как тот конь, копыта откинет.
— Рушить Вязниковку я не дам! Подниму райком, институт, всю станцию, а не дам! — Богатырев твердо сжал губы.
— Станция не твоя.
— Нет, моя!
Он имел право говорить так. Столько вложено в нее сил и здоровья. Николай Иванович отступил, проворчав:
— Ну, это мы еще посмотрим…
Михаил Ионович вызвал их в институт. Лубенцов сказал Богатыреву:
— Ты подожди меня здесь, — и отправился в гараж за «Москвичом». Когда подъехал к крыльцу, Парфен Сидорович уже шагал к шоссе ловить попутку. Догнав его, Николай Иванович открыл дверцу. Богатырев молча сел.
За всю дорогу они не взглянули друг на друга и не обронили ни слова.
Михаил Ионович все утро был сердит и раза два принимался закуривать. Папироска тухла, он кашлял. Коридоры института гудели,