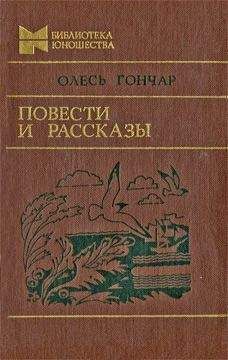— Ее уже не отобьют, — успокоила Веснянка. — Ей уже капут. Сама удушилась в камере.
— Как удушилась?
— Рушник на спинку кровати — и вся песня. Собаке собачья смерть.
Тетя Варя вздохнула.
— А что Ляля говорила… в последний раз? — спросила Надежда Григорьевна. — Вспомни… Ну, что-нибудь! Только не выдумывай. Хоть бы одно словечко.
Веснянка задумалась.
— Ой, как она говорила!.. Я и передать не сумею. Все чудно как-то… Словно бы и не мне, а всем говорит… Встанет ночью и ходит, ходит по камере, а потом вдруг: «Люди! Я вас приветствую. Я вас люблю…»
Надежда Григорьевна закрыла лицо руками, прислонилась к стволу. Яблонька осыпала ее холодной росой.
Тетя Варя сидела прямо на земле, скорбно прислушиваясь к темному притихшему небу.
— Уже не гудит, — сказала она как бы самой себе.
— Это не с той стороны ветер, — возразила Веснянка. — Переменится — и опять загудит.
Надежда Григорьевна, с трудом передвигаясь, подошла к девушке, положила руку ей на голову, заглянула в глаза:
— Оставайся у нас. Не уходи… Оставайся жить…
— Э, — Веснянка энергично замотала головой. — Не могу. Приходить буду, а навсегда не могу.
На заре сестры провожали Веснянку. Вышли за околицу. Осыпанные обильной росою луга казались седыми. Стоило шагнуть — и на траве оставался ярко-зеленый след.
— До чего хорошо! — воскликнула Веснянка. — Шла бы и шла, покуда сил хватит! А знаете, я уйду в леса! К партизанам подамся.
Тетя Варя и Надежда Григорьевна молча шагали рядом. Так они и шли к розовеющему востоку, а за ними в утренней синеве утопал белый Подол и вздымался высокий собор на крутой горе. В заречной голубоватой дымке утопали леса, начинавшиеся здесь и тянувшиеся вдоль Ворсклы через всю Полтавщину до Днепра.
Под ногами зашелестел-задвигался рассыпчатый береговой песок. Еще не было видно реки, спрятавшейся в берегах, но она уже чувствовалась по свежести и прохладе, которой потянуло от нее.
Приблизившись, голубой лес превратился в зеленый, его малахитовые ущелья на том берегу полнились тысячеголосым птичьим гомоном. Зеленый мир, умытый росой, пробуждался, щелкал, высвистывал, и громкое эхо повторяло сказочное богатство аккордов, ладов и звуков. Кукушки куковали так чисто и звонко, будто касались клювами чарующих клавишей неба.
Восток разгорался все ярче; пестрая, радостная музыка, наплывая из зеленых глубин, словно бы обнимала Веснянку.
— Ух! — восклицала Веснянка, ступая упругими, омытыми росой ногами. Ее мокрые, исхлестанные травами колени покраснели. — Ух!..
Так они и шли, ни о чем не говоря между собою, ибо не было в человеческом языке слов, способных передать эту утреннюю симфонию пробудившейся природы.
Остановились на высоком берегу и, поглядев вниз, замерли от удивления. У самой Ворсклы на вылизанном волной влажном песке лежали десятки людей. Юноши и девушки, бородатые дядьки и тетки с кошелками, приготовленными, видно, на базар. Как раз в этом месте был брод, через который из-за Ворсклы добирались в Полтаву по всяким делам и на базар.
— Старик Сапига, — узнавала Надежда Григорьевна среди лежавших, — мать Бориса… Мать Валентина… Чего они лежат?
Веснянка застыла, как удивленная горная козочка на крутой скале.
— Пьют? Нет, не похоже…
Солнце вот-вот должно было взойти, небо в верховьях реки загорелось гигантским костром, и вода, покрытая низкой белесой дымкой пара, вспыхнула румянцем.
— Слушают! Они слушают! — вдруг выкрикнула девушка и, спрыгнув вниз, побежала к берегу. Сестры, скользя и зарываясь ногами в сыпучий песок, опустились за ней.
В последние дни гул фронта отдалялся, будто угасал. Полтавчане его теперь не слышали даже ночью. Боевые рубежи переносились все глубже на восток, куда отступала Советская Армия, обливаясь кровью в тяжелых боях. Далекий фронт слышался лишь на рассвете, в утренней тишине, а чуткая водная гладь, вытекая откуда-то из-за Белгорода, несла на своих волнах еле уловимый гул битвы.
Из-за этого и приходили утром сюда на берег.
Веснянка упала грудью на песок, прижалась ухом. Надежда Григорьевна и тетя Варя опустились неподалеку от нее на колени, потом прилегли и тоже приникли к земле, как к чуткой мембране. Где-то в верховьях, в глубине России, еле слышно гудело, и дрожь, охватывавшая тело земли, замирая, передавалась сюда.
Проходили долгие месяцы.
Во второй половине сентября 1943 года оккупанты начали жечь Полтаву. План разрушения города был тщательно разработан. Ничто не было забыто, все охватывалось этим сатанинским планом: городские поликлиники и школы, вокзалы и жилые кварталы, знаменитый исторический музей, построенный в стиле украинского барокко, и такие же дома, украшенные по фасадам художественной цветной керамикой. Все это подлежало уничтожению, должно было сгореть дотла. На месте степного города-красавца, окруженного заводами и вокзалами, разросшегося пышными садами и парками, дьявольский план предусматривал на кручах правого берега Ворсклы огромный дикий пустырь, заваленный смрадным пеплом и обгоревшими руинами.
Моторизованные, щедро снаряженные команды факельщиков рассыпались по городу. К объектам, которые могли загореться не сразу, была подвезена солома. Кроме того, между кварталами все время курсировали машины с горючим. Вспыхнули пожары, загремели взрывы в разных районах города. Наиболее крупных объекты подрывали аммоналом.
Одновременно началась охота на людей. Стреляли без предупреждения в первого попавшегося, кто имел несчастье оказаться в поле зрения — факельщики заметали следы своей преступной работы.
21 сентября на улицах не было видно ни одной живой души. Жители попрятались в погреба, ютились по окраинам, уходили в леса и овраги за Ворсклу. Среди опустевших кварталов метались лишь дьявольские фигуры факельщиков, выжигавших город, охотящихся на его последних жителей.
И все-таки кто-то в городе руководил народным сопротивлением. Трижды поджигали оккупанты музей, и трижды неизвестные «злоумышленники» тушили огонь. Казалось, все было пусто и безлюдно, но каждое утро в разных районах города оккупанты подбирали на мостовой своих факельщиков-мотоциклистов, валявшихся с размозженными черепами. Во дворы немцы боялись заходить по одному — появлялись лишь целыми командами. Поджигали с опаской, пугливо озираясь вокруг.
Высокий густой дым окутывал город. Земля, дома и даже деревья пропитались зловонным запахом тола и гари. Дышалось с трудом. Ночью на десятки километров было видно, как горит Полтава. Небо над нею казалось жуткой багровой раной. А тем временем по всем дорогам и без дорог шли с востока полки Второго Украинского. С фронтовых аэродромов поднимались эскадрильи, которые вскоре получили наименование Полтавских.
По Коломыцкому шляху, от Чутова, от Искровки на максимальной скорости мчались мощные КВ с десантами. У них было задание с ходу ворваться в город со стороны Южного вокзала и, не задерживаясь, форсировать Ворсклу.
Командиром экипажа одной из первых боевых машин, вошедших в город, был гвардии лейтенант Марко Загорный.
Совхоз «Жовтень» все эти дни жил напряженной, полной тревог жизнью.
Однажды шеф примчался с переводчиком на своей легковой машине и, не заезжая в контору, покатил в поле. Он подъезжал к пахарям и сеяльщикам и, не вылезая из машины, приказывал бросать работу. Разве они не слышат, как гремит за спиной?.. Кажется, впервые за последние годы крестьяне возвращались с поля задолго да захода солнца! Подростки верхом на конях, с радостными выкриками скакали по усадьбе, таская за собой тяжелые катки, словно готовили дорогу сказочным долгожданным гостям.
Под вечер над землями совхоза пролетел немецкий самолет и с бреющего полета поджег скирды сена. В окружающих селах уже рыскали команды факельщиков. В совхозе они еще не появлялись. Шеф заявил в конторе, что он их сюда не пустит. Он не потерпит паники, ибо в последнюю минуту все еще может измениться: он уже ученый, а в случае чего управится и сам — не правда ли?
— Верно, верно, пан шеф, — поддакивали присутствующие.
Разве он не видит, что и пан управляющий, и все рабочие госимения за эти годы привыкли к нему, оценили его заботы, так зачем же ему специальные команды, когда он может отдать любые распоряжения, и они немедленно будут выполнены? Вот живой пример: он приказал бросить работу — и все замерло. Прикажет наоборот — и все оживет. Не так ли?
— Конечно, конечно, — отвечали ему.
Однако шеф и на этот раз не остался ночевать в совхозе, а куда-то уехал. В степи горели скирды, в окружающих селах пылали ветряки на холмах, и их охваченные пламенем крылья вертелись под ветром.
А у совхозных конюшен тем временем сошлись и пахари, и сеятели, и подростки-погонщики выводили коней, разбирали сбрую. Управляющий-агроном вместе с представителем от партизанского отряда стоял возле своей тачанки и раздавал бригадирам наряды, словно это было с утра, а не на ночь глядя. Сеяли всю ночь, пока не зашла луна, и засеяли столько, сколько никогда не успевали за день. На рассвете мальчишки с катками неторопливо возвращались в имение. Кони, утомленные ночной работой, были в мыле, от них валил густой пар. Утром снова приехал шеф с какими-то офицерами, наверное, чинами из сельскохозяйственной комендатуры. Имение будто вымерло.