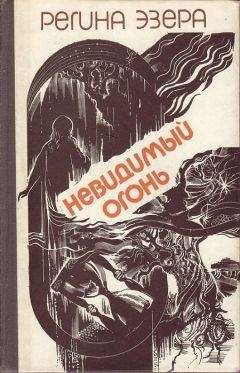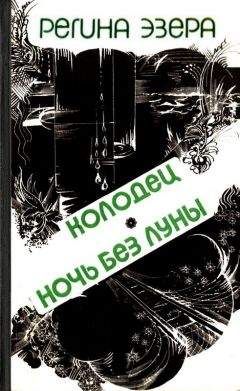— Ну, за знакомство?
Войцеховскому было любопытно, будет ли пить Джемма и как именно, ведь всякий жест по-своему красноречивее словесных заявлений.
Она подняла мензурку, разглядывая жидкость на свет, надо думать — листики, плавающие в ней мелкими мушками, а потом питье понюхала.
— Крепкая?
«Чисто дамский вопрос при виде spiritus vini», — отметил он мысленно.
Она пригубила и засмеялась.
— У нее знаете какой вкус? Вкус…
— …бальзама, — подсказала Мелания.
Джемма покачала головой.
— Желудочных капель!
— Вот и пихай коту сало! — воскликнула Мелания не то весело, не то с сердцем.
За стеной в конторе зазвонил телефон. Войцеховский поставил рюмку и пошел к аппарату. Звонили из «Копудрувы», Так, все же он накаркал на свою голову. И ехать надо немедля, именно сейчас; когда, по правде сказать, до чертиков неохота никуда трогаться. И он готов был пожалеть, что не успел выпить рюмку: тогда бы он не имел права сесть за руль и мог законно прохлаждаться, пока из колхоза не пришлют транспорт. Только назад везти они, мазурики, не торопятся, особенно по воскресеньям. Лучше, конечно, на своих колесах — сам себе указчик и сам себе шофер.
— А блинцы?
— В другой раз, Мелания.
Поднялась и Джемма.
— Мне ехать сейчас… с вами?
— Сидите, сидите. Нет никакой надобности… Значит, завтра в пять. Прошу не опаздывать, Я тоже стараюсь быть точным.
Она кивнула.
— У меня есть будильник.
«Даже будильник! Интересно. Чего только у нее с собой нету», — весело удивился Войцеховский, а вслух сказал:
— До свидания. Счастливо оставаться.
Он хотел намекнуть Мелании, чтобы не разводила тары-бары, не затягивала ужин допоздна, завтра ведь не воскресенье, и собирался это сделать, когда она выйдет проводить его до двери, но Мелания не поднялась с места — он же тут свой человек, авось в темноте не заблудится.
— Ушел, — когда смолкли шаги, отметила и без того очевидный факт Мелания. — Жалко. Посидели бы втроем, поговорили про жизнь. А теперь мы остались с тобой как вдовы. Бери блинцы и намазывай.
Джемма поддела на вилку парочку. Блины успели остыть и сделались от стоянья в духовке жестковаты. Но варенье пахло ароматно и сладко.
— Эх-ма, втроем или вдвоем — все едино. Раз налито, надо опорожнить посуду, — нашлась Мелания и пригласила: — Ну!
Джемма не посмела признаться, что водки не любит, а это Меланьино зелье кажется ей чистой отравой. Она поднесла мензурку к губам и отпила глоточек — брр! Зато Мелания свою опрокинула разом и по-мужски крякнула.
— Теперь закусить надо,
Она свернула блин в трубочку и смачно откусила с одного конца, а с другого капало варенье.
— Ешь, ешь и ты, не тушуйся. Чтобы нам одолеть эту горку… Отец с матерью у тебя есть?
— Да.
— А братья, сестры?
— Да, — подтвердила Джемма, хоть на сей раз немного помешкав.
— Смотри ты, большая семья, — одобрительно сказала Мелания. — А кем работают?
— Мать — агроном, отец… он работает в лесу.
— Мама в колхозе?
— Да.
— Чего ж ты на практику там не осталась?
— Так просто, — тихо проговорила Джемма.
Мелания вновь потянулась к бутылке.
— Белый свет поглядеть захотелось?.. Да ты и не выпила ничего, подружка. Первый раз в Мургале?
— Да.
— Вот постой, — с чувством провозгласила Мелания, — пусть только весна сгонит этот проклятый снег, ты увидишь, какая здесь красота. Река, черемуха, соловьи…
Джемма подумала, что к тому времени она давно будет отсюда за тридевять земель, но она и сама не могла бы сказать, огорчает ее это или, напротив, радует.
— И начальник у нас с тобой тоже неплохой, — продолжала Мелания. Усмехнулась. — Гонять он меня гоняет как сидорову козу, но я… все равно его люблю. Ну, будем здоровы!
— За что гоняет?
— За что гоняет? На то он и начальник, чтобы гонять. А тут у него… — Мелания трахнула кулаком по своей могучей груди примерно в том месте, где должно быть сердце, — тут у него золото! С таким хозяином не пропадешь… Чего ты не ешь?
Своим буравящим взглядом и усмешкой нескрываемого превосходства Войцеховский Джемме не понравился, но открыто признаться в своей неприязни у нее не хватало духа, да и нужды особой не было, а поддакивать казалось лицемерием и к тому же этого с нее никто не требовал, так что разумнее всего было есть блины, а не излагать свои взгляды. В конце концов, здесь жить не вечность, всего один месяц — уж как-нибудь…
А где было, где будет лучше? Где ее ждут с распростертыми объятиями? Здесь ее встретила теплыми блинами и кошмарной водкой хотя бы эта Мелания…
— Все обойдется, — проговорила Мелания, то ли угадывая Джеммино настроение, то ли обдумывая свои отношения с начальством. Помолчала. — Ты сама сюда напросилась или тебя силком послали?
— Сама, — тихо ответила Джемма, и так оно действительно и было — она выбрала наугад, понятия не имея, что такое Мургале. Выбрала — и только потом взглянула на карту: маленький кружок довольно близко от Даугавы. Ей было все равно, где это — на Даугаве, или на Гайзине, или еще где-нибудь, лишь бы уехать.
Мелания приложилась опять и раскраснелась.
— Сам-то страсть как не хотел девку, — изрекла она, смазывая блины вареньем и свертывая трубочкой. — Пришел давеча ко мне и говорит: «Опять, Мелания, нас покарал господь!»
— В каком смысле?
— Когда пришла твоя телеграмма.
Джемма так густо залилась краской, что на глаза набежали слезы.
— Чего ты! — испуганно вскрикнула Мелания. — Не про тебя он это, а вообще. Ни в какую не хотел девчонку. Прошлый год, после Аэлиты, он так и сказал: «Точка, — говорит, — шабаш. Если мне еще раз пришлют этот, как его… слабый пол, пусть не обижаются — я его первым же автобусом налажу обратно». Мне тоже намылил холку, не без этого. Недосмотрела, стало быть. Лист бумаги положил: пиши заявление об уходе! Потом сам же и разорвал. Больно он ко мне привык — к своей Мелании, старой лошади… И сегодня, когда пришла твоя телеграмма…
— Я могу и уехать, — холодно заявила Джемма, — первым же автобусом.
— Ничего тебе рассказывать не стану! — вскричала Мелания. — Ни словечка от меня больше не услышишь, если об себе так много понимаешь. Молчать буду как рыба. «Мо-гу у-ехать!» Ну и езжай, езжай — бегом беги задравши хвост, вприпрыжку. Подумать надо: «Могу и уехать!» Чего же ты сидишь тут, ну? Езжай!
В словах Мелании была святая правда — уехать Джемма не могла, и не только сегодня, так как больше не ходили автобусы, а вообще, в принципе. Ведь что такого случилось-то? Ничего не случилось. Реви она хоть в голос — формально ничего не случилось, да и некуда было ей ехать, и оставалось одно — примириться: с плешивым вредным стариканом, с воинственной Меланией и ее водкой, с тем, что жизнь дала трещину, с родителями, со всем, что она выбрала сама и чего не выбирала.
Какое-то время они сидели молча, только вилка звякала о тарелку, поскольку легкая стычка вовсе не испортила Мелании аппетита, скорее напротив.
— Что же стряслось в прошлом году? — уже без прежней запальчивости молвила наконец Джемма.
— В прошлом году? Ну, сам был ужас как недоволен практиканткой. А мы с Аэлитой жили — грех жаловаться, не вздорили ни-ни. Научила я ее раскладывать пасьянс. Засидимся бывало вот так, как сейчас, до поздней ночи. А начальник… Поляк он поляк и есть: если на кого взъестся, ему хоть кол на голове теши, хоть разбейся — все равно не отмолишься. А та, ну девчонка она, то проспит утром, то где-нибудь загуляется. Поехала домой к матери, а там у соседей крестины. Вернулась только на третий день. А тут в аккурат у нашей фельдшерицы Велты свадьба. Потом искала в стоге сена свои импортные бусы, да так и не нашла. Смеялись все — животики надорвали, ну сам и взбеленился. Не шлюха она, зачем зря говорить, а так просто, не деревянная же — тому-другому и дала. А стоит только нашей сестре прослыть сучкой, как на нее, сама знаешь, всех собак вешать будут. И все оно, может статься, помаленьку бы утряслось, не случись опять некрасивая штука — на дверь нашего участка ночью повесили красный фонарь. Тут поднялся такой тарарам — сам грозился немедля, в тот же час отправить Аэлиту назад, а передо мной положил лист: «Пиши заявление об уходе». Обревелись мы обе. Надо мной он сжалился, я тебе говорила, а ей — как она потом ни юлила, ни лебезила, как ни старалась, ни просила — характеристику дал плохую, а про дневник практиканта сказал, что в нем завелись клопы и тараканы.
— А сам он монах, что ли? — проговорила Джемма с досадой на Аэлиту, подмоченная репутация которой омрачила ей первые шаги и может омрачить весь месяц в Мургале, и с еще большей, все растущей неприязнью к Войцеховскому, который, не зная о ней ничегошеньки, без раздумий, с ухмылочкой, записал и ее в ту же компанию. И эту враждебность подогревал тайный страх, что Войцеховский каким-то неведомым путем все же мог о ней кое-что разузнать. Каким образом? От кого? Такая возможность почти исключалась. И все же… Как бы тогда предстало со стороны все, что с ней произошло? И не вздумается ли какому-то шутнику снова повесить красный фонарь на дверь участка?..