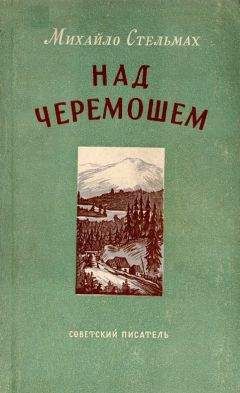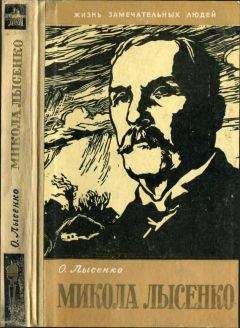Того и гляди, пруды дадут по рыбине на трудодень, и это, ей-богу, недурно! — Юрий Заринчук любовно взвешивает на ладони широкого карпа, и рыбина больше радует его, чем золотой самородок.
— Так и я первые кирпичины взвешивал, — улыбается Савва Сайнюк. — Сам знаешь — глина, обожженная глина, а любуешься ею, как самоцветом. Вот житье!
— Житье! — соглашается Заринчук. — Какой же урожай у Мариечки?
— Небывалый! Плывут и плывут возы. А початки с мою руку. Так и смеются, желтозубые, любо глядеть.
* * *
Сперва из хаты выскакивает поросенок, за ним, размахивая скалкой, разъяренная Василина.
— Чтоб ты сдох! — Женщина колотит поросенка, и визг разносится по всему двору.
С улицы весело входят Юстин и Катерина.
— Опять молотьба?
— Вам смех, а мне горькие слезы. — Василина чуть не плачет. — Приготовила маку на базар, а это несчастье проклятое опрокинуло всю кадушку с маком в бадью, чтоб ему подавиться, чтоб ему околеть до вечера…
— Испортил всю коммерцию? — смеется Юстин.
— Молчи, а то и тебя скалкой огрею!
— Из меня все равно маку не выколотишь!
И чем раскатистее хохочет Юстин, тем больше сердится Василина. Наконец, плюнув, она швырнула скалку на поленницу дров, подошла к воротам и выглянула на улицу. Юстин и Катерина окрылись в дверях хаты.
— Опять поругались? — любезно осведомляется через плетень Палайдиха.
— Лучше бы уж ругались, а то смехом досаждают больше, чем руганью. Это что за подводы завернули сюда?
— Опять, наверно, колхозное на мельницу везут.
— Все на мельницу да на мельницу. А нам хоть бы пудик подбросили.
— Подбросят… на том свете угольков.
— Как здоровье, тетка Василина? — весело приветствует ее с воза молодой ездовой.
— Совсем бы хорошо, ежели бы ты мне, Михайлик, сбросил с воза хоть пуд зерна.
— А что ж, можно.
— Э?
— В самом деле.
Василина беспокойно огляделась вокруг.
— А никто не узнает?
— Никто. Ребята не скажут, — он оглянулся на усмехающихся возчиков. — Вот только бы Палайдиха не раззвонила на все село.
— Она словечка не проронит… Так что вы мне даете? — И Василина, еще не доверяя, подошла к возу.
— Что? Ну хоть бы вот этот мешок.
— Целый мешок?
— А чего ж делить его. Донесете?
— Отчего ж нет!
— Я знаю — вы не раз по врачебным кабинетам ходили.
— И они мне, милый, так пособили, что я теперь могучая, как гром на полонине.
— Ну, раз так — несите.
Василина, согнувшись, подхватывает на плечи мешок и, как молодая, бегом несется в чулан под одобрительный хохот возчиков и Юстина с Катериной, которые, стоя на пороге, наблюдают всю сцену.
— Михайлик, а может, ты и мне мешочек скинешь? — подходя к возу, просит Палайдиха.
— Нет, не скину.
— Что же я, хуже Василины? — Палайдиха багровеет от гнева, не замечая, что соседка уже возвращается к воротам с пустым мешком.
— Что ж, и хуже!
— Хуже? А вот я побегу к Сенчуку и все ему расскажу! Слышишь?
— Бегите хоть в тартарары!..
— Будешь ты меня помнить! — Палайдиха кинулась прочь, а Михайлик широко растворил ворота, и воз въехал во двор Рымаря.
— Михайлик, ты что делаешь? Люди же увидят… Михайлик! — закричала, оторопев, Василина.
— И пускай все видят! Это мы вашей семье трудодни привезли! Ешьте на здоровье!
Женщина окаменела от неожиданности. Вокруг поднялся хохот.
— Что ж это делается? — наконец вырвалось из груди Василины.
— То делается, что я тебе во все агитмассовые вечера до первых петухов втолковывал. Поняла теперь, что такое советская власть? — гордо объясняет Юстин, наконец победивший жену в нелегкой дискуссии.
— Так, так, — словно спросонок говорит Василина, и вдруг в глаза ее заползает страх. — Юстин, а может, это не зерно, а агитация?
— Есть у тебя, старуха, что-нибудь вот тут? — Рымарь постучал пальцем по лбу.
Но и этот красноречивый жест не успокоил женщину. Поправив платок, она метнулась в чулан, заперла его на замок, сунула ключ за пазуху и выбежала на улицу. Тут ее голова завертелась во все стороны, а глаза раскрывались от удивления все шире и шире, она готова была и плакать и смеяться.
По всему селу растекались подводы, нагруженные мешками. Ездовые, придерживая груз, выступали, как женихи, останавливались у ворот и обнимались с веселыми хозяевами.
Гуцулы, гуцулки и гуцулята встречали праздник своего нового труда, прислушиваясь к радостному говору села и звону зерна.
Вот посреди двора растерянно стоит Савва Сайнюк.
— Никогда еще моя хата не видала столько хлеба. Куда же я его сложу? На чердаке тесно.
— Новые заботы! — смеются ездовые. Они весело залезают на чердак, и он поскрипывает, прогибается под их ногами. — И впрямь нельзя сюда хлеб засыпать, — хмурятся парни. — Что делать?
— А вы, детки, снесите его в хату, что же делать человеку?
Гуцулы засмеялись, схватили первый мешок, и зерно обрызгало золотом все сени.
— Не посыпáли[26] еще у вас так, дедушка?
— Не посыпáли, — глаза старика подернулись влагой.
Застыв у дверей, он с недоверием наблюдает, как его хата по самые окна заполняется зерном. Может, это сон? Проведешь рукой по лбу — и развеется, как туман: по долине.
А когда возчики уехали, старик еще раз осмотрел свое добро, снял старенькие, порыжевшие сапоги, вымыл натруженные ноги и сел на порог, задумчиво перебирая руками силу земли.
До самых сумерек сидел он так, а когда в хату заглянул вечер и осветил каждое зернышко, как драгоценный самоцвет, дед, не запирая дверь, вышел в поле…
За облаками бродил месяц, изредка озаряя одинокую фигуру Саввы Сайнюка. Согнувшись, старик выкапывал что-то из своей прежней межи. Звякнула лопата, и Савва с натугой вытащил камень; потом, оглядевшись по сторонам, он положил камень в мешок и направился к Черемошу. У самого глубокого места дед остановился, покачал головой и рывком вытряхнул свою ношу в воду.
— Савва, что это вы топите? — спросил, подходя, Марьян Букачук.
— Что топлю? Пережитки прошлого, Марьян… Волосом я был сед, а умом — дитё!..
* * *
Василина хлопочет у печки, она пробует свежий пирожок с маком, причмокивает губами от удовольствия и даже облизывает пальцы. Снаружи вбегает Катерина и оглушает мать коломыйкой:
Лучше всех живет стряпуха:
Пироги да сальце.
Сиди себе у печи,
Облизывай пальцы!
— И оближешь — такие вкусные!.. Ешь, доченька, — и мать подносит Катерине макитру с пирожками. — Ешь, звеньевая моя золотенькая!
— Так ты уж не маком, а пирожками собралась торговать? Сколько напекла! — отзывается с порога Юстин.
— Ты попробуй сперва, а потом ворчи. — Жена ласково угощает мужа и вздыхает.
— Чего вздыхаешь?
— Ничего, Юстин. Скорей бы уж утро!
— Так на базар и тянет?
— Ой, помолчи, Юстин…
Василина не спала почти всю ночь, а ранним утром, одевшись по-праздничному, пошла с корзиной пирожков в поле.
— Люди добрые, — обратилась она к колхозникам своей бригады, — простите меня, глупую бабу. Хочу работать с бригадой.
— Что ж, становитесь, Василина, с нами.
— На всю жизнь с вами… Только попробуйте пирожков. Сроду таких не ели. Попробуйте, не побрезгайте. И еще раз простите меня, неразумную. Я уже и Миколу Сенчука просила, чтоб не глядел на меня как на элемента.
— И пирожками его угостили? — смеются женщины.
— И пирожками. Он ведь председатель… Ел и хвалил… Так уж пожалуйста! Уж такие пирожки, уж такие медовые, уж такие, что ну, да и только!
* * *
На лужайке возле импровизированных праздничных подмостков разгулялись гуцулы. Свежие голоса стелются по ранним осенним росам, а стройная музыка облетает все улицы, подбивая на пляску даже стариков. В буйном вихре закружился праздник красок, юности и красоты. Не успела рассыпаться веселыми брызгами пляска, как на середину лужайки выскочил разрумяненный Иван Микитей, крикнул музыкантам:
— Не ленись, играй! У нас славный край! Играй, чтоб и горы топотали, а в долину каблуки отлетали!
Ой, выйду я на леваду,
Посредине стану.
Одна милка несет кныш[27],
Другая — сметану.
А я кныш за ремень,
А сметану выпью.
Одну милку поцелую,
А другую кликну.
— Настечка, это он тебя кликнет? — хохочет Василь Букачук.
— Лучше скажи, как ты теперь глазами захлопаешь, когда тебя Мариечка кликнет? — Иван снимает с головы Василия крысаню. — Слушайте, слушайте, сейчас нам споют вихры Василя, там соловей гнездо свил!
И все хохочут, глядя на смущенного лесоруба.
— Выходи, Настечка, плясать, — подлетая к своей любушке, кричит Иван.