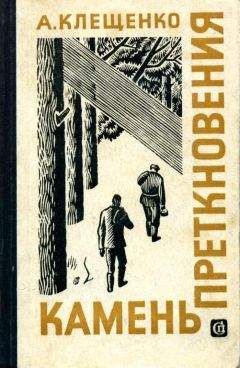Нет, пусть уйдут они. А он останется. Скажет: есть дело, должен задержаться. Мало ли что у него за дело? Дело — значит дело, никто не спросит его какое. Не положено спрашивать!
Подготавливая этот будущий разговор, он сказал, будто с интересом разглядывая снег под окном:
— До мая здесь ворью жить худо. Дворники снег не убирают… Хочешь не хочешь, а след оставишь.
— Олень! — презрительно оглядел его с ног до головы Воронкин, будто измерял рост. — Технически надо работать. Чтобы без следов.
— Где можно, а где и нельзя! — настаивал на своем Ганько. — Я вчера нарочно по Сашкову прошел. Смотрел. Еще на баяниста с Настей нарвался. Напугал их, а она к Борьке так присосалась, что он ее еле оторвал!
Лязгнув зубами от внезапного толчка в грудь, парень растерянно смотрел на Шугина, сгребшего в горсти рубашку на его груди.
— Свистишь? — заглядывая в глаза, спросил Шугин.
— Ты что? Чокнулся?
— Меня заводишь? — Шугин тряхнул его, еще ближе притянул к себе. У него подрагивал угол рта. — Меня другим заводи. Девку не трожь зря, гад! Пришибу!
Стуколкин, Воронкин, Ангуразов, готовые разнять их, ждали: что дальше?
— Да ты что? Внатуре говорю. Сам видел…
Пальцы Виктора разжались, безвольно упали руки.
— Лады! — только и сказал он, поворачиваясь к своей койке.
Воронкин прикрыл один глаз ладонью, спросил:
— Я не косой?
Стуколкин пожал плечами — не знаю, мол, вроде действительно черт знает что получилось.
— Витёк, в чем дело? — спросил он Шугина.
Тот ответил, глядя в сторону:
— Так…
И, уходя от вопросов и пытливых взглядов, на ходу прижигая папиросу, захлопнул за собой двери.
— Значит, Настя ему бороду пришила? — улыбаясь, поинтересовался у Василия Воронкин.
— Да нет… Он же с Наташкой Игнатовой вроде… Хотя… В Сашково редко когда ходит…
— Факт, что борода! — решил Воронкин. — Ну и отметелит Витёк баяниста! Удавит, гад буду!..
Стуколкин, не глядя, зацепив с гвоздя чей-то ватник, шагнул к двери.
— Куда? — спросил Ганько.
— Туда! — неопределенно ответил Стуколкин, но Василий понял: к соседям, в случае нужды помочь Шугину. Накинув ватник, Стуколкин объяснил сам:
— Он же псих, Витёк. А на черта ему несчастье иметь? Да еще из-за девки!
— Пошли, — кивнул Ганько. — Вдвоем сумеем придержать, если кинется на Бориса. Пера-то у него нет вроде?
Им не пришлось ни удерживать Шугина, ни отнимать у него нож. Виктор стоял на крыльце, грудью навалясь на перила. Курил, жадно глотая дым. Щеки его при каждой затяжке проваливались, обтягивая острые скулы.
— Не заводись! Плюнь! — встал рядом с ним Стуколкин.
— Было бы из-за чего, — подошел с другой стороны Ганько. Он считал, что только из-за одной Дуси Мурановой стоило рисковать. Но Дуся и не позволит себе с кем-нибудь целоваться, кроме Василия Ганько. Это уж будьте уверены!
— А я и не думаю заводиться! — вдруг усмехнулся Шугин, хотя глаза его совсем не смеялись. Глаза были пустыми, невидящими, словно погас всегда плавающий в зрачках огонек.
— Правильно! — сказал Стуколкин. — Что ты, хулиган, что ли?
— Руки пачкать! — брезгливо поморщился Ганько.
Шугин, видимо тяготясь их опекой, в поисках неведомо чего забегал по сторонам мертвым взглядом.
В сени, кутаясь в накинутый поверх нижней рубахи полушубок, вышел Никанор Коньков. Щурясь спросонья, долго приглядывался к стоящим на крыльце, потом спросил:
— Не поте́пле стало? Пора бы уже?.. А?..
Неприязненно покосившись в его сторону, дернув углом рта, Шугин вдруг объявил:
— Схожу до Чарыни. Могу захватить пару бутылок, Никола!..
— Не захватишь, — вмешался, покачав головой, Коньков. — Забыл, который сегодня день? Понедельник! Закрыто у Клавки.
— Откроет, — сказал Шугин.
— Нет, я тебе говорю! — Коньков подкрепил слова жестом, забыв о накинутом полушубке. Не придерживаемый рукой, полушубок соскользнул с плеч. Покамест Коньков поднимал его, Шугин спустился с крыльца. Конькову пришлось кричать вдогонку ему:
— В Сашково Клавка ушла. К своим. Слышь?
Шугин, не обращая внимания, зашагал по обледенелой тропе, скрылся за углом барака.
— Зря сходит, — сокрушался Коньков.
— Пусть! — успокоил его Стуколкин. — Промнется. Ветром обдует человека.
Тот посмотрел недоверчиво, боязливо:
— Чего-то ты мне… того… Зубы заговариваешь.
— Ага, — серьезно сказал Стуколкин. — Я же цыган. Могу гадать и зубы заговаривать. И коней воровать. Идем, Васька…
— У меня, брат, нечего воровать, — крикнул им вслед Никанор. — За воровство, брат, теперь по головке не гладят… Знаешь?
— Знаю, — оборачиваясь, усмехнулся Стуколкин. — Не буду твоего коня красть. Ладно.
— А у меня его и нету, коня-то! — радостно сообщил Коньков.
— Правильно, — уже с порога ответил Стуколкин. — Зачем твоей бабе еще одну скотину держать?
Коньков, недоумевая, посмотрел на закрывшуюся дверь: чего врет парень? Вовсе скотины они не держат, Коньковы…
А на правой половине барака Тылзин рассказывал Скрыгину, что такое настоящая работа в лесу. На механизированных участках, где рубят целые кварталы, не пяток стометровых пасек за всю зиму.
— Тут что? — спрашивал Иван Яковлевич и сам же отвечал: — Трактору тут, прямо сказать, невыгодно. Ему кубатура нужна, трелевка хлыстами. И расстояние, чтобы не шибко далеко от разделочной площадки. Он ведь тихоход, разделанный лес дальше автомашина повезет. А у нас три километра до склада, три назад. Опять же сплав. Сплаву надо бревно дать, а трактор тебе хлыст двадцатиметровый притянет. С берега до берега твоей Лужне хватит. На раскряжевку надо бригаду ставить, на штабелевку. Вот ты и прикидывай: что выгодней? Выходит, наивыгоднейшее здесь дело — бригада малого комплекса, только что заместо трактора конь. Вот если бы массив подходящий, тогда да! Тогда без механизации делать нечего. Масштабы, Вася, масштабы! Как дорубим здесь дачу — на четвертый участок должны угадать. Там посмотришь!
— А чего там смотреть? Такие же сосны да елки? — отложил затрепанную «Роман-газету» Усачев. — На технику, Иван Яковлевич, мы в армии насмотрелись, не удивишь. Тебе, Васька, вылезать надо из леса. Сюда, как на зимовку, от беды можно завербоваться. Вот как мы с тобой нынче. А присыхать в лесу интересу нет, по-моему…
— А где, по-твоему, интерес есть? — прищурился Тылзин. — Можешь ответить?
— Могу, — самонадеянно сказал Усачев и споткнулся, обдумывая, как отвечать. Тылзин, он такой: ответов по уставу не признает, дотошный мужик. Но по уставу отвечать всегда проще, особенно когда вопрос каверзный. — Во-первых, у каждого свой интерес быть должен, Иван Яковлевич. От призвания. А главный интерес — работать там, где ты можешь дать больше пользы для государства. Для общества. Скажем, если у кого талант… Ну, например… к технике, так нечего ему лезть в другое дело.
— Ну-ну!.. — поощряюще и в то же время лукаво усмехнулся Тылзин. Поняв, что Борис выговорился, спросил: — Это ты про Ваську, что ли?
— Ну и… про Ваську тоже…
— Понятно. В газете про пользу для общества читал? Это хорошо. Плохо, что прочитал, слова запомнил, а не вник. Болтаешь себе как патефон — по пластинке. И я тебя не об Ваське спрашивал, об тебе.
— Так я же вам ответил…
— Туману ты напустил. Для общества! По-твоему, как у тебя талант к баяну, тебе надо на баяне играть, чтобы для общества польза была? Да?
Усачев пожал плечами, иронически улыбнулся.
— Конечно, если понимать в узком смысле…
— А ты мне в широком объясни. Коли уж я такой бестолковый…
— Не стоит, Иван Яковлевич! — все с той же гримасой иронии и сожаления отмахнулся от тяжелодумности собеседника Борис.
Тылзин вздохнул и медленно провел по лицу ладонью сверху вниз. Ладонь словно бы стерла обычное выражение лукавого добродушия.
— Не можешь, — сказал он. — Я сам тебе объясню, а ты разве что «нет» скажешь. Другого не сумеешь. А «нет» скажешь, это я точно знаю…
На койке зашевелился дремавший Сухоручков. Не поворачивая головы, пошутил:
— Опять Иван правды ищет? Ты с ним не вяжись, Борис, — заговорит насмерть.
Принимая его слова за поддержку, Усачев съязвил:
— Он, Николай Николаевич, за баян напустился на меня. Против музыки возражает.
— Нет, я тебе твой интерес объяснить хочу. Ты вот Ваську сбиваешь этим интересом, а он у тебя вроде коньковского. Деньгу заработать побольше.
— А вас это совсем не интересует, конечно? — елейно играя голосом, прервал его Усачев.
— Всех интересует, зря ты меня перебил. Я говорю: деньгу зашибить побольше, а работенку найти полегче. Только Никанору образование не позволяет по своему интересу жить. Разве что на коне работать, не топором махать. А ты заместо коня — музыку, баян… Ты не обижайся, я тебе правду говорю!