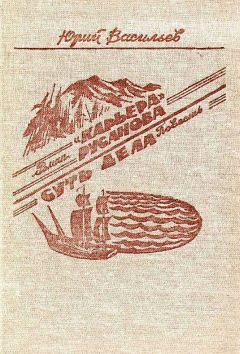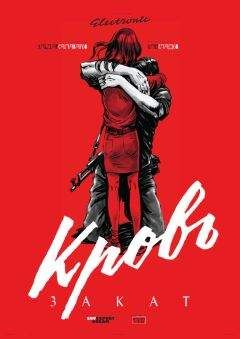— Что так? — насторожился Геннадий.
— Да ведь с врачами-то мы больше не от хорошей жизни знакомимся… Ладно, вот что. Я пойду на кухню чай заваривать, а ты мою контрольную пока посмотри.
Геннадий посмотрел контрольную — все в порядке. Похоже, Семен человек добросовестный, написал, как надо. Ох-ох-ох! Элеваторы, уловители, помидоры какие-то… Доволен, аж светится, а всего и дел-то, что еще одну железяку запустили. Хотя, конечно… Как это он говорил? «Человек, приставленный к производству?..» Правильно. Вот и пусть стоит. Кому-то ведь стоять надо.
И еще… Бурганов ему нужен. Да-да! Бурганов, Княжанский, Шлендер, Машенька со своим щебетанием — все это люди, которые, худо-бедно, формируют общественное мнение: люди, на которых надо опираться, чтобы выйти вперед, к которым надо прислушиваться, чтобы не оказаться в хвосте. М-да… Сложную ты себе жизнь устроил, Геннадий Васильевич, только что делать? Объективные законы упрямы…
Пока он таким образом размышлял, Бурганов, прихлебывая чай, достал с полки альбом Петрова-Водкина, последнее приобретение Геннадия, раскрыл его на середине, вздохнул.
— Ты смотри! Неужели у Верочки брал? Надо и мне взять, если осталось… Вот как раз «Купание красного коня». Знаешь такую картину?
— Чепуха, а не картина, — хмыкнул Геннадий, несколько озадаченный: Петров-Водкин — художник трудный, его немногие жалуют. — Смещение перспективы. И вообще неграмотно. — Он искоса посмотрел на Семена. — Какое-то все круглое, не разберешь сразу.
— Сам ты… круглый! — со смехом, но не сердито сказал Бурганов. — Понимал бы!
— Где уж нам… — Геннадий тоже улыбнулся. Дурачить Семена ему расхотелось. Это не перед близнецами выкобениваться, как-то даже неприлично. — Родена хочешь посмотреть?
— Еще бы! Тоже в магазине?
— Да нет. Это так, случайно…
Много чего терял Геннадий за эти годы — о вещах и книгах даже говорить не стоит, но случалось, что в редкие минуты затишья он как за соломинку хватался то за сонеты Шекспира, то за гравюры Доре — несколько самых любимых книг и альбомов кочевали с ним по России, и к ним обращался он, когда было совсем уж плохо или, напротив, когда рассеивался на время зеленый туман, отступала беда, светлело за окном.
— Богато живешь, — сказал Семен, перелистывая страницы. — Интересуешься, выходит? Я вот тоже… Даже учился этому делу. Ну-ка, посиди минутку, я тебе на память твой профиль запечатлею. Бумага найдется?
— Только чтобы красивый был, — сказал Геннадий, протягивая ему блокнот. — Потом я тебя изображу. Обменяемся автографами.
— Рисуешь? Опять у нас с тобой совпадение. Может, ты еще и стихи пишешь?
— Чего нет, того нет, — покачал головой Геннадий. О стихах ему говорить не хотелось.
— А я грешил.
— Даровитый ты мужик.
— Какой к черту… По молодости лет все стихи царапают. Туда кинешься, сюда кинешься — все тебе надо, всего тебе хочется: ты и поэт, ты и художник, ты и с парашютом прыгаешь, а свое дело чуть не прохлопал… Жадный я был, Гена, до невозможности. Как это, думаю, люди без меня по морям плавают, на полюс летают, да мало ли чего. Вот и… Ты погоди, не вертись, у тебя нос трудный. Посиди смирно. Вот так! Хорошо… А еще я хотел знаменитым боксером стать. Представляешь? Это при моем-то могучем телосложении…
— Представляю…
Тогда вот и послышалось Геннадию что-то очень близкое, давным-давно забытое — знакомые слова, такие знакомые, черт возьми! Это же он сам в шестнадцать лет так же чирикал, замахивался на весь мир обеими руками, пузыри пускал от нетерпения… Только в шестнадцать лет это звучало хоть и наивно, но мило, а в тридцать лет это не звучит.
— Какое же ты дело чуть не прохлопал? — спросил Геннадий.
— А я ничего не прохлопал, — спокойно сказал Бурганов. — Ничего, Гена. Я свое дело сделал… Или почти сделал. — Он проговорил это как-то жестко, коротко, словно отметая дальнейший разговор. — На-ка вот лучше погляди. Похож?
— Ни-че-го… — протянул Геннадий, рассматривая рисунок. — Весьма, знаешь ли…
Рисунок был просто хорош. Точная, смелая линия. Хм… Элеваторы, уловители… Черт бы побрал этого Семена с его неожиданностями!
— Ты что будешь делать в отпуске?
— В Магадан поеду. Раз случай подвалил, попробую сессию досрочно сдать. Все польза от врачей будет.
— Ты бы лучше отдохнул как следует. Куда торопишься?
— А все туда же… Время поджимает, Гена.
— Скажи на милость! Можно подумать — старик.
— Старик не старик, а поджимает… Ладно, пойду я. Значит, говоришь, ошибок у меня в контрольной нет? Действительно — нет?
— Погоди, — вдруг неизвестно почему сказал Геннадий. — Возьми Петрова-Водкина. Бери, бери, у меня дома в Москве еще есть.
— Не врешь?
— А и вру, не твое дело. Какой тебе еще дурак подарит?..
Проводив Семена, Геннадий достал тетрадь — ему теперь уже просто необходимо было время от времени поговорить с собой, пытаясь разобраться, — социальный закон, которым он так лихо вооружил себя, трещал по всем швам.
«Совсем я запутался в людях, — думал он, рисуя в тетради чертиков. — Очень трудно идти по дороге, освещая ее фонариком, в котором, похоже, сели батарейки…»
Прошла неделя.
Всю неделю Геннадий гонял по Верхнереченской трассе и посмеивался. Дорога была убийственная, а это значит, что соперников у него нет. По такой дороге только Русанов умел делать план и даже чуть больше. Свои ездки он знал, чужие не считал, и когда учетчица сказала, что у Дронова всего на три ездки меньше, а у Шувалова — на одну, он нахмурился. Однако! Наглеют парни. Ладно, с понедельника попробую вскарабкаться на террасу, тогда погоняйтесь за мной!
В субботу позвонил Герасим. Сказал, что его выписывают, можно приезжать. А Тимофей лежит. Тимофею худо.
Третьего дня пришла к Геннадию немолодая женщина с красным лицом, долго сидела, плакала, теребя по-крестьянски повязанный платок. Она в больницу не поедет, зачем расстраивать человека, поправится и так, а только не держите вы его, отпустите… Народу у вас много, а на людях он нехороший, злой. Ему покой нужен. Все у них было наладилось по-семейному, сапоги ему справила, костюм, да вот понесла его нелегкая… Хозяин он, и ласковый, и тихий, когда никого нет, и выпьет когда — тоже тихий, а что пьет — ну так что тут сделаешь? Склонность у него такая. Может, образумится.
Лицо у женщины было морщинистое, в оспинах, глаза запали, и говорила она скорее как мать, и это вроде хорошо, но Геннадию очень хотелось, чтобы этой женщины не было. Попадет к ней Тимофей — все! Эта баба утопит его в тепле и подушках, ублажит его добротой, на водку ему заработает.
— Не пойдет он на Кресты, — сказал Геннадий. — Передумал.
Женщина покорно вздохнула.
— Ну ладно… Его воля. Надо, видать, мне скарб перетаскивать.
«Я тебе перетащу! — погрозил ей про себя Геннадий. — М-да. А Пифагор того и гляди загнется. Вот ведь…»
В больницу пускали только после обеда. Геннадий позвонил доктору, но тот нудным голосом сказал, что поблажки балуют людей. Геннадий плюнул и стал ходить по улицам до тех пор, пока возле магазина не наткнулся на Машу.
«Судьба! — подумал он. — Сама судьба-злодейка так и кидает эту девочку в мои объятия. Не будем противиться судьбе».
— Здравствуйте, Машенька!
— Здравствуйте! Что вы тут делаете?
— Жду, когда мне Герасима на руки выдадут. А вы гуляете? Пойдемте со мной в магазин.
— А что вам надо купить?
— Куплю что-нибудь.
Геннадий повел ее в детский отдел. Он уже знал, что ему надо.
— Смотрите, Машенька, как легко приобрести счастье. Всего за шесть рублей с копейками. Девушка, дайте мне конструктор.
— Вы хотите его кому-нибудь подарить? — спросила Маша, когда они вышли из магазина.
— Нет, Маша, я буду играть сам. Открою коробку, вывалю все это богатство на газету и буду строить башенный кран, потом паровоз. Очень приятно сидеть на корточках и строить. В детстве я мечтал о таком конструкторе, но настоящую цену игрушкам человек узнает позже… Знаете что? Давайте я вас покатаю на машине? Просто так, как на такси.
— Не могу, Гена. У меня дома одеяло байковое замочено, стирать собралась. Перемокнет.
— Понятно. Его, наверное, выжимать надо?
— Конечно.
— Я знаю. Одеяло очень трудно выжимать, нужна мужская рука. Как вы думаете? Или я слишком назойливо напрашиваюсь к вам в гости?
— Ну что вы, Гена. Конечно, пойдемте. Я вас чаем напою.
Комнатка у Маши была крохотная, с низким потолком, стены оклеены обоями. Маша усадила его на диван с подпиленными ножками, дала какой-то журнал и вышла на кухню. Он огляделся. Подушечки, скатерки, портреты Маяковского и Ромена Роллана рядом с веером киноактеров. А что? Очень мило. Спокойно. Простодушно. Байковое одеяло замочила… Проживет себе, прочирикает до пенсии, и еще неизвестно, кто кому завидовать будет.