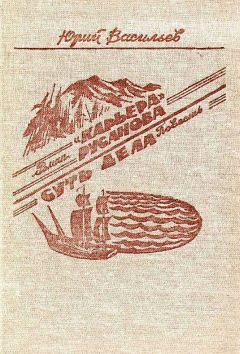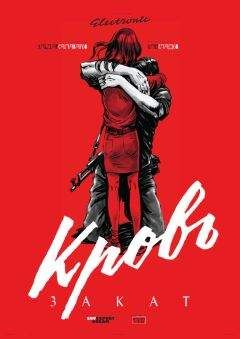— Напротив. Я вас ждал.
— Ну да, так уж и ждали… Я была у ваших ребят в больнице, встретила Аркадия Семеновича, вот он мне и сказал.
— Вы такая румяная, Машенька. Мороз, должно быть?
— Какой мороз! Теплынь… Вы на лыжах ходите?
— Да так…
— Аркадий Семенович вас заставит. Он всех так лечит. Я ведь тоже его старая пациентка.
— Вон оно что…
— Вы Фокина знаете? — спросила Маша.
— Знаю. Как же… А что?
— Так… Сосед мой. Я все у него про вас спрашивала… — Она осеклась и как-то совсем по-школьному добавила: — Ну, про работу вашу…
— Ах, про работу? Передайте Фокину привет. Скажите, что Русанов чести не посрамит… И принесите мне подарок, Маша. Ладно? Банку сгущенного молока. Я снова накормлю вас тянучками.
«Готова, курочка, — подумал он, когда Маша ушла. — Можно ощипывать и в бульон…»
Через два дня Геннадий ходил уже без костылей, чуть прихрамывая. Он прочел все журналы, выпил ведро кофе и стал скучать.
— Завтра сбегу, — сообщил он Шлендеру.
— Скатертью дорога.
— Давайте устроим прощальный ужин.
— Отчего же, можно устроить.
Они напекли блинов и сели ужинать. Доктор поставил на стол баночку красной икры.
— Беда, Гена, терпеть не могу, когда люди пользуются блатом, а вот не устоял. Слабость моя.
Он приоткрыл было дверцу шкафа, где стояла бутылка водки, но тут же закрыл, сделав вид, что ничего не было.
— А вы не бойтесь, — сказал Геннадий. — Давайте по рюмочке.
— Кукиш тебе.
— Я серьезно, Аркадий Семенович. Понимаете, какое дело. Вы же сами сказали, что я не алкоголик. Так, пьяница бывший. А чувствовать себя ущербным как-то неловко. Все могут выпить рюмку, я, выходит, не могу.
— Гена, — серьезно сказал доктор, — смотри, я могу и налить.
— Налейте.
Доктор наполнил рюмки.
— Между прочим, у вашего Пифагора, кажется, воспаление легких, — сказал он. — Это ему совсем не вовремя. Сердце у него плохое.
— Скрутило, значит?
— Скрутило… Сечь надо! И Герасима вашего в первую голову. Организатор. Кто же так работает, понимаешь ли, что в мирное время люди в такое бедствие попали? Героизм — это знаешь что?
— Знаю.
— Откуда знаешь?
— Маша говорила.
— Ах, Маша… Славная девочка. Ты на ней женись, а?
— Жениться надо по любви.
— Да-да… Очень свежий афоризм. Ну да ладно. Выпью за то, чтобы нам с тобой больше не встречаться в операционной. Еще один такой финт, и мне придется обнажать голову… Ты, значит, не пьешь?
— Нет, почему? Пью… — Он взял рюмку, повертел ее в руках и поставил обратно. — Похоже, и вправду не пью. Кишка тонка… Даже для пробы не хочется.
— Совсем?
— Теперь совсем. А раньше… Ох, трудно было, Аркадий Семенович. Ну да вы, наверное, представляете.
— По книгам, голубчик. По книгам… Значит, полный порядок. Теперь из тебя дурь кое-какую повытрясти и можно вешать под образа.
— Доктор! — возмутился Геннадий. — Никак, вы собираетесь начать душеспасительную беседу? На вас не похоже.
— Нужен ты мне больно! Доедай свои блины да спать. У меня завтра три операции.
На другой день Геннадий поехал домой. Снег стал таять, осел, покрылся грязными пятнами. Жаль. Скорей бы зима.
Неделю еще он сидел дома. Сидеть было хорошо, не хуже, чем валяться у доктора на диване. Верочка, лишенная возможности ухаживать за своим ненаглядным Герасимом, ставила ему всяческие припарки, и он терпел, потому что обидеть ее просто не мог; девчонки, все пятеро — Вера, Надя, Люба, Маша и Виолетта, — торчали у него в комнате с утра до ночи, попеременно седлая многострадального Джека. Словом, жизнь была самая хорошая, но в конце недели он попрыгал на одной ноге, убедился, что она уже не очень больная, закрыл бюллетень и сел на машину.
Как раз надо было завозить лес на подстанцию. И как раз была суббота, шоферское гуляние. Ребята к вечеру вычистили и выскоблили красный уголок — клуб решили под это дело не занимать — пригласили девчат, уставили столы всякой снедью, и началось веселье под радиолу.
Геннадий тоже танцевал, но больше сидел в углу и разрешал смотреть на себя девчатам, которые все еще рассказывали друг дружке о трех геройских шоферах… «Сечь надо!» — вспомнились ему слова доктора, и он подумал, что сечь, может, и надо, но когда девчата смотрят, это все-таки приятно.
Ребята оказывали ему знаки внимания по-иному.
— Ты м-молоток! — говорил уже слегка веселый Демин. — Ты на меня плюй, что я тебе тогда… слова разные говорил. Не со зла я, Гена, по дурости. Опрокинем? — И не дожидаясь компании, Демин опрокидывал, шел танцевать.
«Неужели только четыре месяца я знаю этих ребят? — думал Геннадий. — Странно…» Вот танцует Володя Шувалов, грациозный куль с руками. Парень, кажется, на выданье. Все его актрисы над кроватью исчезли. Все до единой. Кто-то из близнецов нашел у него фотографию в книге, хотел было поговорить на эту тему, но Володя сгреб его в охапку, и близнец долго сидел с высунутым языком.
Два раза в месяц Володя пишет по вечерам длинные письма. Он старательно морщит лоб, черкает, потом аккуратно переписывает крупными буквами. Письмо идет на Рязанщину, к матери. Володя пишет, что скоро накопит денег и вернется. Дальние края ему надоели, сколько можно? И на Рязанщине дел хватит. Купит машину, поставит новый дом. Так что ты, мама, не горюй.
Письма эти он пишет уже пятый год, а деньги все не копятся, оттого, должно быть, что два брата никак не могут жить на стипендию, да и сестра уже невеста, туфли ей модельные надо, платья модные.
А это Дронов. Вася Дронов. Танцует, как службу несет. Армейская выправка…
А вот близнецы. Один из них мечтает побить Рислинга, чемпиона области, другой изучает французский. Собирается в Париж. «Как можно не быть в Париже? Никак нельзя не быть в Париже. Приеду — буду говорить — а вот у нас, на Елисейских полях…»
Четыре месяца назад Геннадий вот так же сидел и смотрел на ребят. Они собрались вроде бы невзначай, но Геннадий-то знал: пришли посмотреть на нового шофера. «Смотрите, — думал он, — а я на вас погляжу… Вот ты, Шувалов, лик у тебя чистый, глаза голубые, но уж больно ты похож на одного моего знакомого, хорошего смирного мальчика, который приводил морячков к своей сестренке. Ты, Дронов, тоже ничего. Видел я таких подтянутых дубин. Скажи им перепахать Новодевичье кладбище — они перепашут… А у Лешки-близнеца личико точь-в-точь, как у того ловчилы, что мне трудовую книжку подделал…»
Вечер между тем распалялся.
— Хочу тост сказать! — объявил Дронов. — Кто — за?
— Валяй тост!
— Тост будет такой… Давайте выпьем за Герасима… Мы хоть с ним и ругаемся, а мужик он хороший. А? Кто — за?
— Мужик — сила!
— И за Пифагора!
— Ну, давай за Пифагора…
— Ловкий парень, — сказал Демин. — Знает, как надо. В глаза ругай, за глаза хвали, все скажут — вот молоток!
— Пьяный ты дурак, трезвый тоже дурак, — тихо сказал Шувалов. — Сиди уж, не рыпайся, а то тебе язык отдавят.
Демин промолчал.
Шувалов встал.
— Эй, шоферы! У меня идея. Будете слушать?
— Вали! Только покороче!
— Соревнованьице хочу заделать.
— Чего?! Вяжи профорга, кто ближе сидит!
— Тихо! Я немного во хмелю, но говорю точно, ставлю свой магнитофон и полные кассеты музыки тому, кто обставит до Нового года… — Он обернулся и подмигнул Геннадию. — Тому, кто обставит Русанова! Ясно, шоферы? Только в накладе быть не хочу. Кто желает, пусть тоже что-нибудь выставит.
— Во дает! — толкнул Геннадия Лешка-близнец. — Это, называется, профорг организует соревнование!
— Ты меня сначала спроси, — вмешался Геннадий, — может, я откажусь?
— Тебя? Ах, да… Ну хорошо, я тебя спрашиваю. Согласен?
— Согласен!
— Записывай меня! — крикнул Дронов. — Я его и без твоей музыки обставлю. Кладу на кон ружье «Зауэр»!
— Кладу «Киев»! Пиши и меня.
Геннадия охватил азарт.
— А почему ты свой магнитофон ставишь? Не пойдет! Я ставлю свой.
— Моя идея, мой и приз.
— Не пойдет!
— Слишком много магнитофонов!
— Эй, шоферы! Не базарить! Собрание все-таки…
— Чего?! — крикнул Демин. — Собрание?! Я думал, мы гуляем-закусываем. Ну дела!
— Шувалова на мыло!
— Долой бюрократов!
— Сейчас его будут бить, — прыснул Лешка. — И не дождется мать родная своего сыночка…
Когда все кончили смеяться, встал Геннадий.
— Минутку! Пусть будет Володькин магнитофон. Я ставлю свой приз — чайную розу! Настоящую чайную розу в большой синей кастрюле.