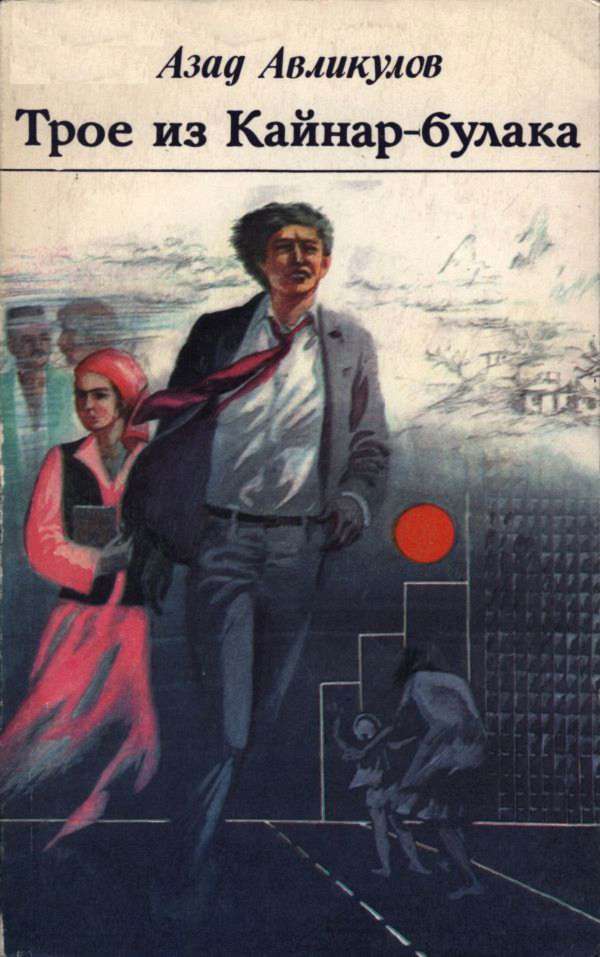Я, сам видишь, совсем расхворалась, стала обузой для Мехри…
— Ну, зачем вы так! — перебила ее Мехри. — Слава аллаху, половина забот дома на ваших плечах лежит. Даже, если вы просто будете советы мне давать, и то великая помощь. Я ваша дочь и… пожалуйста, не обижайте меня, прошу вас!
— Саодат… — произнесла хола, обрадовавшись в душе упрекам Мехри, но при том сделав вид, что не обратила на них внимания, — кроха, какая от нее польза матери?!
— А тога сколько помогает мне, — напомнила ей Мехри.
— Слава аллаху, здоров он, только одному небу ведомо, на сколько его хватит, дочка, так что не спорь!
Пулат слушал женщин и радовался трогательной заботе Мехри о хола. «Действительно, — думал он, — тога и хола для нас точно мать с отцом. И, что бы ни случилось впредь, мы все останемся самыми близкими для них людьми».
— И не больны вы, холаджан, — сказал он, — просто возраст такой, старость не благость. По-моему, вам теперь надо сидеть на чорпае в саду, как барыне, пить чай и давать указания невестке да внукам. А у Мехри вон какая помощница, я имею в виду Шаходат. Невеста!
— Конечно, — согласилась Мехри с мужем, — Шаходат трудолюбива, все умеет делать. Что лепешки испечь, что постирать, что приготовить обед — на все ее хватает.
— Разве вас переговоришь, — с притворным вздохом произнесла хола. Ей было приятно слышать все это. — Только внуку моему садиться на трактор рано!
Бибигуль-хола серьезно болела, только никто не мог сказать чем. Тога, да и сам Пулат, водили ее к врачам, возили на «святые» места и к табибам, не жалели ни овец, ни петухов, чтобы кровью их окропить землю на известных в округе мазарах, а мясо раздать отиравшимся там в дни жертвоприношений людям, ради того, чтобы те попросили захороненного в мазаре «святого» облегчить участь женщины, правоверной мусульманки. Тога обращался к самым знаменитым ишанам, не скупился на расходы и заказывал им тумары — талисманы, якобы способствующие излечению от недуга, предотвращающие несчастья. Но все это, видел Пулат, не давало эффекта — хола почти незаметно для глаз таяла. Лицо ее побледнело, а руки, крепкие, налитые, стали тоньше, на них все яснее проступали синие прожилки вен. Порой казалось, что хола и ростом становится ниже.
— Пусть, холаджан, будет по-вашему, — сказал он, как отрезал, надеясь, что это хоть как-то взбодрит ее.
— Спасибо, отаджан! — воскликнул Сиддык и, вскочив с места, подбежал к нему, обнял и звонко чмокнул в щеку. — Разве я хуже Бориса, сына Миши-тога? Он ведь тоже пошел в мастерскую учеником слесаря. Знаете, что Миша-тога нам сказал?
— Я же не слышал, сынок, — произнес Пулат.
— Он сказал, что я и Борис теперь будем рабочим классом, ведущим классом Советской страны. И что поэтому мы должны гордиться своим званием.
— Гордитесь, гордитесь, — снисходительно улыбнулся Пулат, похлопав сына по плечу, — только ты, например, не забывай, что и отец твой принадлежит к тому классу…
Нечасто в доме Пулата случались минуты, чтобы вот так непосредственно общались. И не оттого, что не было поводов для этого. Как всякий горец, кого трудные условия борьбы за место под небом учили отдавать предпочтение делу, а не слову; Пулат рос неразговорчивым. Под стать ему была и Мехри. Говорят: что с молоком вошло, то с душой выйдет. Тога и хола первые годы удивлялись этому, а потом привыкли и, мало того, сами стали такими же. Главным делом своей жизни Пулат считал благополучие семьи и ради этого не жалел ни сил, ни времени. Он старался сделать все, чтобы не скудел дастархан в доме, чтобы дети не знали нужды, чтобы все члены семьи были одеты и обуты не хуже других. И это ему удавалось. Хлеба в доме было вдоволь, скота тоже хватало. Сад и огород не только полностью удовлетворяли потребности семьи, но и кое-что шло на продажу.
Мехри считала, что необходимо как-то определить в жизни сестренку, и решила завести об этом разговор с мужем. Шаходат заканчивала десятилетку в Термезе, в школе-интернате. Дело в том, что к ней посватался один из трактористов бригады Пулата, работящий и скромный Батыр, двадцатилетний парень из кишлака Ходжа-кия. Он изредка приходил в дом бригадира, встречался с Шаходат, если та оказывалась тут. Пулату и Мехри казалось, что молодые нравятся друг другу и что, если Батыр предложит Шаходат руку и сердце, не стоит огорчать парня отказом. Батыр, словно бы угадав их мысли, и в самом деле прислал сватов. Разломали, как положено, лепешку и договорились, что, как только девушка закончит школу, сыграют свадьбу. Шаходат, услышав эту новость от сестры, ничего не ответила, смутилась и убежала к подруге, что жила в доме напротив. И вот в последний свой приезд перед выпускными экзаменами она объявила Мехри, что замуж не выйдет, пока не окончит медицинский институт.
— Ну, годик-то жених может подождать, — сказала Мехри, решив, что таков срок учебы. Спросила: — На кого же ты учиться хочешь, сестренка, и где?
— На доктора, опаджан, — ответила Шаходат. — Буду учиться в Ташкенте пять лет.
— Пять лет?! — воскликнула Мехри. — Да ты с ума сошла! Какой мужчина станет столько ждать?
— Пусть женится на другой, — равнодушно произнесла Шаходат. — А я все равно поеду учиться!
— Подумай, какой позор ты навлекаешь на голову Пулата-ака, — сказала Мехри, опешив от решительного тона сестренки. — Как же мы людям в глаза будем смотреть?!
— И ты подумай, опа. К чему мне было столько лет учиться? Чтобы быть женой тракториста?
— Не забывайся, Шаходат, — упрекнула Мехри, — ты выросла в доме тракториста, и, дай бог, каждой девушке это. Самое лучшее отдавали тебе!
— Спасибо вам за это, опаджан! Вы и почча для меня все равно, что мать и отец. За «тракториста» извините. Дело не в том, кто будет моим мужем, а…
— В чем же тогда? Может, ты себе учителя подыскала?
— Нет. Дело в том, что я — комсомолка, опа. Учиться меня посылает комсомол. А во-вторых, лечить людей нужны специалисты. Вот я и буду, может, самым первым доктором-узбечкой в Шерабаде.
— Не знаю, кем ты станешь, — сказала Мехри, — а старой девой — это точно!
— Значит, судьба, опаджан!
— Услышал