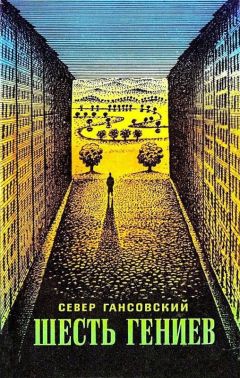— Осторожней, осторожней! — кричал Цымбал, отгоняя страусов подальше от гостей.
— Разве они дерутся? — спросил Левонтий пятясь. — А говорят, что эта птица самая пугливая на свете…
— Слушайте, что вам наговорят… А он как долбанет так аж взовьешься!.. Нога у него, видите, что копыто.
— А как же ты с ними, Нестор?
— Так это ж я, — улыбнулся Цымбал. — Они как к кому… Вот смотрите…
Нестор свободно подошел к одному из страусов и нежно погладил его по туловищу, что-то приговаривая. Птица в ответ забормотала, ласково потерлась о Нестора и, вытянув свою длинную шею, положила ему голову на плечо, словно обнимая.
— Почти одинаковые, — захохотал Оникий. — Как солдаты, один в один…
— Все оно понимает, только не разговаривает, — ласково говорил Нестор, подходя к гостям. — Как хотите, а мне… полюбилось. Есть в нем душа.
— Ты, Нестор, во всяком звере душу найдешь, — кинул Левонтий, тяжело опускаясь на траву. — Недаром за тобой в Криничках все приблудные собаки ходили…
— Раздолье тут нашему атаману, — опускаясь рядом с братом, насмешливо заметил Оникий. — Пасет, пасет, да и напоит… Слыхали мы, Нестор, что ты тут чуть ли не главный при зверинце? Правой рукой у того, как его, Ноя?
— Правой не правой, а левой наверное, — улыбнулся Цымбал, присев перед земляками, босой, в облезшей шапке. — А вас же каким ветром сюда?
— Да мы что, — поглаживая бороду, загадочно подмигнул брату Левонтий. — Как были наймитюгами, так и остались: с одного места да на другое сторожить чужое добро… Это ты вот, как видно, разбогател… От голубей на Штраусов перешел, — захохотал Левонтий, намекая на давнюю голубиную страсть Цымбала, который и вырос с турманами за пазухой. — Только этого уже за пазуху не впихнешь…
— Лаской можно всякую тварь привлечь к себе, — мягко возразил Цымбал. — Вы думаете, откуда при человеке взялось такое, как лошадь, корова, овца, собака, курица или тот же голубь? Дикими когда-то были… А человек своей добротой, деликатным уходом приучил их к себе, сделал домашними… Но мало ведь! Сколько еще есть в лесах и пустынях такого, что можно бы одомашнить… Возьмите вы антилопу, или фазана, или даже вот этого страуса…
— Ты слышишь? — толкнул Оникий брата. — Ему уже коня и коровы мало! Уже, наверное, его Степанам коровье молоко надоело, — хочет для них еще Штрауса приручить! Ну, пусть тебе, Нестор, Штраус, а мы люди темные, нам подавай волов, да коров, да отары овец!
Грубый хохот земляков, который другого кого-нибудь обидел бы, на Цымбала почти не действовал. Веселое и мудрое спокойствие светилось в его глазах.
— Есть у нас тут профессор один, Иванов по фамилии, из Петровской академии присланный… Мы с Клименко часто ему помогаем… Такого, скажу вам, ученого поискать… Случил зебру и коня, и уже есть у нас маленький скрещеныш. А на днях вот на домашнюю простую кобылу пустили дикого монгольского жеребца…
— А это же зачем? — уставились на Цымбала земляки. — Все перепутаете, потом толком не разберешься!
— Разберемся, — уверенно улыбнулся Цымбал. — Зато потомство будет вдвое сильнее, чем домашние лошади…
— Ты тут, Нестор, возле прохвесора и сам прохвесором станешь! — воскликнул Оникий. — Послучаешь всех со всеми… Заживешь тогда, земляче, не по-нашему!..
— Не очень тут и профессоры живут, — задумался Цымбал. — Сам на кирпичном заводе в какой-то халупе ютится, которую ему академия у Фальцфейнов арендовала… Для его лаборатории дворец бы поставить, а он у Фальцфейнов где-то на задворках…
— Слушай, земляк, — нахмурился вдруг Левонтий, — ты ни себе, ни нам баки такими вещами не забивай… Тебя в Криничках куча голышей с заработком ждет, а ты к ним босым прохвесором явишься… Последнюю курку в петуха обернешь…
Перемигнувшись, Сердюки одновременно выставили на траву свои восьмушки и стали молча следить, какое впечатление это произведет на земляка.
— Ого, как вы живете, — радостно удивился Цимбал. — А я с Каховки еще не пробовал…
— Так топай сейчас, ищи закуски, — распорядился Левонтий, обращаясь к бывшему своему атаману уже как к подчиненному. — Штраусы твои никуда не денутся…
— Что ж я вам принесу? — растерялся Нестор. — У меня так, что и… пусто в закромах.
Сердюки задумались. В самом деле, что с такого взять? Один в Аскании армляк, да и тот гол как сокол… Потом, о чем-то пошептавшись, они вдруг пожелали, чтоб Нестор зажарил им на закуску страусовое яйцо.
— Добудь сковородку и зажарь, — разошелся Левонтий. — Пора уже и нам полакомиться.
— Слыхали мы, — весело подпрягся к брату Оникий, — что одно штраусячье яйцо несколько фунтов тянет… Это если разбить, так на всех нас яичницы хватит…
Цымбал вначале думал, что земляки шутят, а поняв, что это не шутки, стал решительно отказываться.
— А вы бы ели?
— А что?
— Люди добрые! Разве вы не знаете, что кто страусовое яйцо съест, у того шею на аршин вытянет, будет как у страуса!
— Да ну! — оторопели Сердюки и стали поводить своими воловьими шеями.
Цымбал ухмыльнулся.
— Так ты еще издеваешься? Панского добра для односельчан жалеешь? — насупился Левонтий. — Оно нам, может, дороже, чем тебе, а и то готовы есть!..
— Не панское жалею! — горячо возразил Цымбал. — А чтоб страусы не вывелись! Разве ж, если я неграмотный, то и понять ничего не способен? Может, то, что сегодня выведем, когда-нибудь и нашим детям пригодится…
— Такой ты, значит? — процедил сквозь зубы Оникий. — Здорово встречаешь гостей!
Обиделись на земляка Сердюки. Сидели, надувшись, как сычи, над своими осьмушками.
— Лучше на этот раз нам без закуски обойтись, — попытался уговорить их Цымбал. — Если б знал, чего-нибудь другого вам принес…
— Не надо нам другого, — стали подниматься Сердюки. — Загордился ты, Нестор, тут возле своей птицы, земляки для тебя уже ничто…
— Разъелся, как кот, а мышей не ловишь!
И, забрав свои осьмушки, обиженно поплелись к имению. Пусть…
Пожалел для них Цымбал страусовое яйцо, а еще неизвестно, что из него вылупится!
Ночью Сердюки уже сторожили Асканию, словно собственный хутор, колотя в колотушки громче, чем все другие сторожа. Бедняги так старались, что разбудили Софью Карловну, которая послала горничную узнать, не случилось ли чего-нибудь.
…О том, что дядья уже колотят в Аскании, Ганна узнала не сразу, хотя на следующий день паныч снова прикатил к сезонникам в степь, на сей раз, правда, уже без Гаркуши.
Девушки как раз обедали, прижавшись, как перепелки, под копнами, в холодке.
Ганна хлебала с Вустой из одной миски, когда из-за соседней копны прозвучало сразу несколько голосов:
— Паныч приехал!
— Вот повадился!
— Кружит уже над какой-то…
Ганна побледнела при этих словах и отложила ложку.
— Чего ты? — удивилась Вустя. — Что он тебя, съест?! Такого еще нет, чтоб на любовь кого-нибудь неволить.
Ганна в ответ только вздохнула и склонилась над миской.
Вскоре из-за копен показался и сам паныч. Размашисто ступая по стерне, он что-то оживленно объяснял молодому подгоняльщику, который, молча утираясь рукавом, шел вприпрыжку за длинноногим панычем. Заметив девушек, паныч развязно поздоровался с ними и бросил шутя, обращаясь к Ганне:
— Ну, головастики еще не пищат?
— Еще нет, — тихо ответила Ганна и потупилась. Щеки у нее при этом чуть заметно порозовели.
— Только тумана что-то много в этой воде, — не удержавшись, уколола Вустя паныча.
— Ну-ну, ты, щебетуха, — весело погрозил ей Вольдемар. — С такими глазенками да с такими ямочками на щеках ты хоть кого затуманишь, — улыбнулся он и пошел с подгоняльщиком дальше, к косилкам.
Пока обед не кончился, паныч все болтался по жнивью, хотя девушек уже больше не затрагивал. Видно, заметил он, как болезненно смутилась Ганна, согнувшись над батрацкой миской, в своей незавидной одежде. Заметил и больше уже не хотел вгонять ее в краску.
Тем временем затарахтели косилки, затрещала сухая пашня, словно горела ясным, невидимым пламенем. Поднялись девушки из-под копен, пошли к своим полосам. Многие вязальщицы прихрамывали. Поле было ровное, косилки брали низкорослый хлеб у самой земли, стерня торчала твердая и острая, словно рассыпанные гвозди.
Хромала и Ганна. Еще в первый день порезалась она стерней до крови, и теперь нога у нее нарывала. Назло панычу хотела пройти мимо него не хромая, но боль была так сильна, что темнело в глазах, и Ганна, сама того не замечая, шла припадая на ногу.
Вольдемар не видел, как прихрамывали другие раненые вязальщицы, он видел лишь, как, хромая, прошла к косилкам Ганна, надевая на ходу грубые парусиновые вязальщицкие нарукавники на свои красивые, полные запястья. Наверное, задела паныча жгучая боль Ганны! Смотрел, помрачневший, насупленный, а возвращаясь к машине, уже не так размашисто шагал по стерне своими длинными, в дорогих желтых туфлях ногами.

![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)