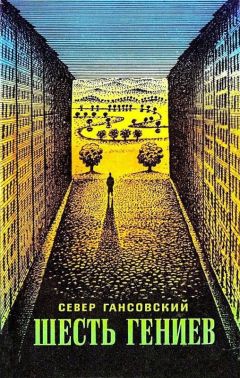Вустя тоже жалела Ганну, но другой жалостью. У нее у самой ежедневно сочилась кровь из порезанных ног, но у нее кровь была, видимо, такая, что, не превращаясь в нарывы, сразу запекалась на теле вишневыми потеками. Если б Ганне да такую кровь!
Вообще Вусте вязалось легче, чем Ганне, она больше привыкла к работе, была более быстрой и ловкой, чем подруга. Еще другие горбились над снопами, а Вустя, пробежав полосу, уже сидела на снопике, как горлица, с готовым свяслом. Сидела, тихо напевая, прислушиваясь к Кураевому. Не раз уж оттуда посвистывал, прищелкивал ее милый паровик, пробуя свою силу перед молотьбой. Сразу узнавала Вустя этот родной далекий голос, тот нежный прищелкивающий свисток, самый красивый из свистков других машин, которые пробовали в эти дни свои голоса по раскиданным в степи токам… Прищелкивал, звал, обращался прямо к Вутаньке… Легко, празднично становилось на душе, и стерня уже была не колючей, и снопики летели из-под рук сами собой. Как богата, как счастлива была она в эти дни, мечтая, что вот они снова встретятся с Леонидом и, упиваясь своей хмельной близостью, пойдут, куда захотят… Душистые степные вечера будут для них, словно небо для птиц, и эта неоглядная степь будет принадлежать только им, как собственные светлицы, и все то самое лучшее, что рисуется впереди в чистых девичьих видениях, будет принадлежать только им, навсегда!..
В этот день не свистел до обеда далекий свисток. Не прищелкнул он и после обеда. Может, что-нибудь случилось? Или, может… забыл? Под вечер печаль охватила девушку. Хотелось подняться, на крыльях слетать… Вязала уже всердцах, прижимая коленом ни в чем не повинные снопики к земле. Работала, сжав губы, стараясь не думать о Леониде, а в себе несла жаркий уголек собственной песенки, что сама как-то сложилась тут, на косовице: «Ты, машина, ты, свисточек, подай, милый, голосочек…»
Не подает…
Вечером приехал верхом Гаркуша и все ходил следом за Ганной и допытывался, что у нее с ногой. Так надоел и опостылел за вечер, что Ганна в конце концов послала его ко всем чертям.
А на следующее утро прибыли из Аскании на лихой двуколке Сердюки. Несмотря на жару, были оба в смушковых шапках, в новых яловых сапогах, и Ганна, поняв, в чем дело, сразу же с отвращением посмотрела на их яловые сапоги, возненавидела эти сапоги сильнее, чем ненавидела раньше их потрескавшиеся пятки.
— А ну, где тут наша хромая? — потопали по жнивью Сердюки. — Давай, девка, к фершалу, потому что иначе вспыхнет антонов огонь…
Ганна и в самом деле едва ходила: за ночь нога распухла еще больше. Однако ехать в Асканию не хотела.
— Заживет как-нибудь и тут… нечем мне вашему фельдшеру платить…
— Да ты что? — ощерился на нее Левонтий. — Родных дядек не слушаешь?.. Материнскую волю нарушаешь? Да мы за тебя перед нею крест, может, целовали!!!
Подхватив Ганну под руки, они потащили ее к двуколке.
Усевшись, она уже не сопротивлялась. Тем временем отовсюду сбегались через поле девушки-вязальщицы провожать подругу.
Ганна сидела в двуколке прямая, спокойная и бледная, как перед казнью.
— Ганна! Сестра! — заволновались, подбегая, подруги. — Куда они тебя забирают?
— К фельдшеру, — горько улыбнулась Ганна, глядя поверх голов дядек куда-то в степь, наполненную солнцем.
— Продавать? — подлетая к двуколке, накинулась Вустя на Сердюков. — Каховской ярмарки было вам мало?
— Опомнись, сумасшедшая, — огрызнулся Оникий. — Девушку, может, антонов огонь жжет, а тебе видится черт знает что..
— Пусть везут, — сказала задумчиво Ганна, спокойно снимая нарукавники. — Только… не продамся я.
Величественным жестом она отбросила нарукавники прочь на стерню и перевела взгляд на загривки Сердюков. Что-то новое, хищное, дерзкое сверкнуло вдруг в ее больших блестящих, как лед, глазах.
— А если уж и доведется, то… не меньше, чем за миллион… чтоб попановать над холуями!
Ударили Сердюки по лошадям, затарахтела двуколка на рессорах, вынося Ганну с косьбы.
XXX
— Везут! Везут! — засуетилась панская челядь, когда двуколка с Ганной влетела в Асканию. Горничные и лакеи, толпясь у окон, жадно ощупывали ее полными холопского любопытства взглядами. Кто она, какая она, эта новая фаворитка молодого хозяина, которая въезжает сегодня в Асканию прямо с косовицы?
Ганна ехала выпрямившись, прикрыв лицо от солнца запыленным, посеревшим в степи платком. Чувствовала на себе все эти взгляды, полные неприязненного интереса и холопской затаенной зависти… Что они думают сейчас о ней, о чем перешептываются между собой? Ждут ее позора? Надеются, что уйдет отсюда униженной, осмеянной?.. Хотелось цыкнуть на всех, чтоб разлетелись кто куда, как степные ящерки из-под ног!..
В фельдшерской, куда привели Ганну, ее уже ждали старичок-фельдшер в белом халате и паныч Вольдемар, который был сегодня серьезен, чем-то заметно озабочен. Присутствие паныча не удивило Ганну, она как бы ждала этого. Не удивило и не испугало ее также и то, что дядьки, толкнув ее через порог в эту белую, словно снежную комнату, сами остались за дверьми.
Пахло лекарствами, и от этого запаха у Ганны слегка закружилась голова.
— Как хорошо, что вы приехали! — проникновенно говорил паныч, стоя перед ней точно в тумане. — Я так боялся, что вы не приедете…
Без пенсне паныч был как-то не страшен ей, маленькое холеное личико казалось детским. Не смутившись, Ганна разрешила ему взять себя под руку и провести через комнату к твердой, обитой белой клеенкой кушетке. Уселась и как бы окаменела.
Паныч отступил к окну, вместо него подошел фельдшер, потирая руки и нехорошо, плутовато посмеиваясь.
— Прилягте.
Лечь? Ганна сразу встрепенулась, ей стало жарко. Фельдшер ждал, а она сидела. Было почему-то стыдно ложиться на кушетку в присутствии паныча.
Будто догадавшись, Вольдемар повернулся лицом к окну. Она легла. Нестерпимая боль пронизала ее всю, когда фельдшер стад ощупывать нарыв. Напряглась всем телом, стиснула зубы, заглушая стон. Потемнело на миг в глазах… Раскрыла глаза, и опять были белые палатные снега вокруг, и Вольдемар уже напряженно смотрел от окна прямо на ее тело… Ганна ужаснулась, словно глянула вдруг его глазами на себя со стороны, на свое бесстыдно раскинутое тело, на высокую свою грудь и полные тугие ноги, равнодушно оголенные фельдшером выше колен… Хотелось вскочить, прикрыться от паныча всеми этими стенами-снегами, и в то же время что-то сдерживало ее, было как будто нужно, чтобы на нее — такую! — смотрели…
Прикрылась от него только собственными ресницами и лежала так.
Пока фельдшер вскрывал, промывал, смазывал нарыв, Вольдемар смотрел на нее, не отводя взгляда.
— Какая воля, какая выдержка, — с тихой зачарованностью промолвил паныч, когда все было окончено и Ганна уже сидела с перевязанной ногой, поправляя на себе одежду и чувствуя облегчение во всем теле. — Скальпель идет по живому, а она… Да перед вами преклоняться надо, Аннет!
В это время дверь распахнулась, и в комнату словно ветром внесло вертлявую веселую молодку в фартучке служанки. Бойко стрельнув глазом в паныча, она тут же подскочила к Ганне, застрекотала над ней, как сорока:
— Укололась? Нарывало? Ничего! До свадьбы заживет! Теперь я возле тебя буду за фельдшера. Положим на ночь припарку, и завтра — хоть в танцы… Берись за меня, пойдем, покажу тебе все!..
Ганна удивилась:
— Куда?
— Да не к косилкам, конечно, — засмеялась молодка. — На хозяйство свое пойдем, ты ведь теперь старшая горничная при доме приезжих… Будем с тобой на пару гостей принимать…
Ганна удивленно взглянула на паныча.
— Подожди, Любаша, не стрекочи, — вмешался Вольдемар и, подавляя неловкость, скороговоркой объяснил Ганне, что она сейчас свободна от всякой работы и, пока окончательно не вылечится, будет жить с Любашей.
— А дальше видно будет, — неопределенно закончил Вольдемар, провожая Ганну до самой двери.
На крыльце ее ждали дядьки.
— Ну как? Ну что? — накинулись они с обеих сторон на племянницу. — Что он тебе сказал?
— Ничего страшного… скоро заживет, — сдержанно ответила Ганна, имея в виду фельдшера.
— Да нет… это, известно, заживет… а паныч что оказал?
— Ах, отстаньте вы, ради бога! — измученно выдавила из себя Ганна, невольно прижимаясь к Любаше.
Сердюки прошли за ними еще несколько шагов, потом вдруг отстали, о чем-то советуясь. Любаша тем временем повела Ганну по высоким ступеням дома приезжих. В коридоре пошли по мягкому ковру в самый конец. Аккуратная комнатка, в которой они очутились, тоже была в ковриках, в живых цветах, в кружевах и белоснежных высоких перинах…
— Здесь мы будем жить, — обвела Любаша рукой комнату. — Заказывай теперь, что ты хочешь?
Ганна устало опустилась на стул, вздохнула.

![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)