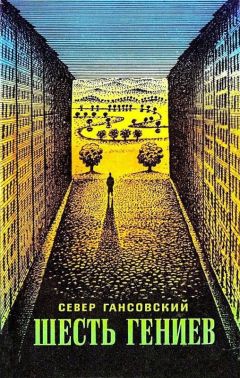— Здесь мы будем жить, — обвела Любаша рукой комнату. — Заказывай теперь, что ты хочешь?
Ганна устало опустилась на стул, вздохнула.
— Воды.
— Воды? Ха-ха-ха! — расхохоталась Любаша. — А может, водочки? У нас и такое есть!
— Нет… воды… Жажда меня еще с самой степи мучит…
И когда Любаша, выбежав на минуту, вернулась с полным графином свежей, сладкой артезианской, Ганна, припав к нему, не оторвалась, пока не выпила до дна.
XXXI
— Ты еще не знаешь, Ганнуся, нашего паныча, — говорила погодя Любаша, разложив на коленях вышивание. — Даром что такой богач, а с людьми он не гордый, простой, обходительный… Возле него легко жить. В других экономиях от панычей всего натерпишься — он тебя и выругает, и изобьет, и прикажет за межу на коне выгнать, а наш никого не ударил, никому слова наперекор не сказал. Только приехал — всю прислугу чаевыми одарил, никого не забыл. И сколько его знаю, всегда такой: добрый ко всякому, кто к нему добрый…
— А ты тут уже давно, Любаша? — спросила Ганна, прилегшая после купанья на белоснежные перины.
— Вольдемар еще гимназистом был, когда я сюда попала, — живо стрекотала Любаша. — Черниговская я, явилась в Каховку такой же обшарпанной, как и ты! Вначале с грабарями на прудах работала, на земляных работах, — ох, набедовалась, Ганна! Только и вздохнула, когда в горничные вышла. Что мне теперь? И хожу чисто, и ем вкусно, и черной работы не знаю! Прибавляется понемногу в сундучке, да и домой каждую осень передачу передаю… А все потому, что характер у меня веселый, людям я приятная… Вот съедутся к панычу гости, сразу: спой, Любаша, спляши, Любаша!.. И спою им и спляшу, — разве меня от этого убудет? Если б мне да твоя красота, — ого-го, девчина, — далеко б я была!..
— Это они и меня будут заставлять плясать? — засмотрелась Ганна на узорчатый лепной потолок.
— Если не захочешь, кто же тебя заставит! Да у тебя и защита хорошая есть, — засмеялась Любаша. — Паныч такому не позволит тобой понукать. Тебе теперь и сама барыня не страшна!..
— Злющая, говорят?
— В печенках всем сидит, — оглянувшись, зашептала Любаша. — Горничным ни погулять, ни уснуть не дает, всю ночь заставляет молиться… Сама хочет святой стать, а они чтоб за нее поклоны били!.. Вот она скоро выйдет зубы себе греть… а может, уже и вышла, — подняв штору, Любаша выглянула сквозь цветы в оконце, выходившее в сад. — Уже сидит! Полюбуйся своей свекрухой, — прыснула она в ладонь, отшатнувшись от окна.
Ганна поднялась на локте и посмотрела в сад. Софья сидела одна в плетеном кресле, на открытом солнце, закинув голову, широко раскрыв рот. Девушке она показалась сумасшедшей. Сидит на самом солнцепеке, разодрав, как кащей, свой старческий рот до ушей, уставившись прямо на солнце, словно хочет на него тявкнуть!..
— Чего это она, Любаша?
— Во рту у себя выгревает… Лечит солнцем какую-то хворобу, что нагуляла с залетным американцем.
— Фу какая… Опусти занавеску.
Ганна откинулась на подушки. Волны ее черных, распущенных после мытья волос свободно рассыпались по постели, по плечам, полным, округлым, как бы выточенным из слоновой кости. Положив на лоб руку, молча смотрела в потолок, украшенный лепкой, но и оттуда над ней свисали какие-то уроды с раскрытыми ртами, которые словно хотели залаять на солнце…
— Никто ее здесь не любит: ни слуги, ни контора, — затараторила опять Любаша, принимаясь за вышивание. — Да и Вольдемар был бы, видно, рад, если бы она уже богу душу отдала, чтоб самому потом распоряжаться… Ну, Вольдемар, этот еще так-сяк, хоть для видимости матери ручку целует, а Густав придурковатый, когда был здесь, духа ее не выносил… Один раз овчарками затравил, на каменную бабу загнал, — должна была целый час там кукарекать…
Ганна чуть заметно улыбнулась, представив барыню верхом на каменной бабе.
— Здорово, наверно, испугалась?
— Сняли чуть теплую…
— А где он сейчас, тот Густав?
Любаша вздохнула.
— Дорнбургом правит… Сослали туда на покаяние за то, что брату адскую машину подложил… Ирод, самую близкую подругу мою, Серафиму-горничную, жизни лишил…
Ганна плавно поднялась в постели, села.
— Так, значит, это правда?
Она мельком слыхала об этом страшном случае в поместье, но только сейчас — из уст очевидицы — он дошел до нее во всей своей жуткой, зловещей достоверности. С большими от ужаса глазами слушала Ганна подробный рассказ Любаши о гибели подруги…
— Только и того, что похоронил по-людски, белый камень поставил с золотыми буквами, — скорбно закончила Любаша и, отложив работу, полезла куда-то в угол за кровать. Выпрямилась с бутылкой в руке.
— Давай, Ганна, устроим ей поминки… Потому что кто о ней, несчастной, вспомнит… Будешь?
— Это что такое?
— Водка.
— Непривычная я, Любаша… Пей сама.
Наклонившись, прямо из бутылки Любаша сделала несколько глотков. Отставила, передохнула.
— Привыкнешь, Ганна, и ты… Ко всему тут привыкнешь…
Облокотилась о край стола Любаша, склонившись щекой на руку. Потом тихо, чуть слышно стала напевать:
До дому iду,
Як риба, пливу,
А за мною, молодою,
Сiм кiн хлопцiв чередою
В цимбалоньки тнуть, тнуть, тнуть…
Песня была веселая, игривая, но сейчас в устах Любаши она звучала как-то грустно.
Ганна слушала песню и как бы не слышала ее, сосредоточенно думая о погибшей девушке, которая, возможно, еще недавно лежала здесь, на ее, Ганнином, месте.
— Где ее похоронили? — спросила девушка, помолчав.
— Серафиму? За Герцогским валом. Барыня настояла, чтоб подальше… Не на виду… Эх!.. «В цимбалоньки тнуть, тнуть, тнуть…»
В дверь постучали.
— Можно, — насторожилась Любаша.
Вошел паныч Вольдемар, веселый, ребячливый, в расстегнутой рубашке с засученными рукавами, с какой-то коробкой в руке.
— Я на минутку, — остановил он Любашу, которая бросилась уже было бежать к двери.
Ганна закрылась простыней по самую шею, всю ее обдало приятным жаром, хотя стыда оттого, что паныч застает ее в постели, она не ощутила. После того как он в фельдшерской так долго и возбужденно смотрел на нее, она уже как бы побывала с ним в какой-то недозволенной близости.
Поставив коробку на стол, Вольдемар обратился к Ганне, радостно озабоченный и немного смущенный:
— Ну, как тебе?
Подумав, Ганна ответила протяжно:
— Луч-ше…
И смотрела на паныча смелым, изучающим взглядом.
— Главное, чтоб не скучала по степи… Ты уже тут, Любаша, развлекай ее… Можешь позвать вечером Яшку-негра, пусть поиграет вам на гитаре… А я сейчас в Геническ. Что тебе привезти из Геническа? — любезно обратился он к Ганне.
— Ничего мне не надо, — ответила она, хотя ей была приятна сама возможность заказывать, приятно было чувствовать свою власть над этим молодым миллионером, что мог бы с потрохами закупить всех криничанских богатеев Огиенков, от которых она в свое время столько натерпелась.
— Вот как управлюсь немного с делами, повезу вас к морю… Ты хочешь видеть море, Аннет?
— Не называйте меня Аннет… Я — Ганна.
Паныч засмеялся:
— Хорошо, не буду… Так поедешь к морю, Ганна?
— Посмотрим.
Заботливо коснувшись мимоходом горячего подбородка Ганны и пожелав ей поскорее поправиться, паныч оставил комнату.
Ганне понравился этот визит. И то, что паныч постучал в дверь, спрашивая разрешения, прежде чем войти, и что задержал в комнате Любашу, чтоб не оставаться им наедине, и деликатная речь — все это было новым для Ганны, непривычным после грубости, среди которой она росла, после тяжеловесных шуток, которых она наслушалась от каховских барышников. Правда, когда он мимоходом провел рукой по ее подбородку, Ганну передернуло, а когда, выходя, он окинул взглядом ее тело, то Ганне показалось, что он видит ее сквозь простыню обнаженной, но и это у него вышло как-то особенно, по-пански, и не обидело Ганну.
— Вот это приворожила, — восторженно пропела Любаша, когда шаги паныча стихли за дверью.
— Уж и приворожила, — не сдержала улыбки Ганна.
— Впервые таким его вижу… Ни одну он так не навещал… Ой, Ганна, попануешь! — в восторге воскликнула Любаша и кинулась к коробке, оставленной панычем. — Что он тут принес? Духи! Глянь, какие флаконы! Такие только у барыни есть… А пахнет! Давай я тебя побрызгаю, Ганна, чтоб парижами пахло, ха-ха-ха… Не только ж им, когда-нибудь надо и нам!
Набрав полный рот одеколона, Любаша принялась тут же прыскать на Ганну ароматным дождем.
За этим занятием и застали девушек Сердюки, которые ввалились в комнату без всякого предупреждения.
— Чем это у вас так пахнет? — расставив руки, шутовски заговорил Левонтий. — Не то мятой, не то канупером… и не разберешь.
Оникий тем временем, подойдя к столу, уже заглядывал в коробку. Открыл самый большой флакон, приложил к ноздре, с сопением потянул в себя, словно тертый табак.

![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)