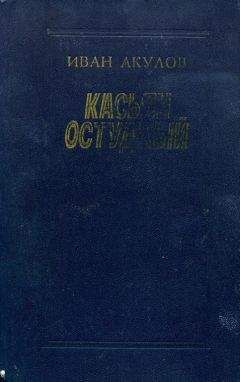— Успели уж как-то подсчитать.
— Лошадь или корова опять, — не целковый, в кармане не утаишь.
— Мы тебе можем сказать, сколько у вас хлеба насыпано, — известил Егор.
— Да ведь в хозяйстве, Яков Назарыч, всего много, только не мое, отцовское.
Яков Назарыч опять сбросил костяшки на счетах, поставил их на ребро и опять прижал ими бумаги:
— Ты теперь основная сила в хозяйстве, и разговор с тобой окончательный. Ежели твой старик не согласен, оставь ему лошадь и коровенку, пусть мыкается. Чего тут неясного?
— Яков Назарыч, я уж говорил тебе, давай при таком разговоре батю не трогать. Я пришел к вам советоваться по своей молодой жизни, а ты за батю…
— Да ежели он кулак, который, так ему должны оказывать уважение, так, что ли?
— Слушай, Егор, как тебя… не лезь в разговор. Я с председателем разговариваю, а ты мешаешь, не даешь слова сказать.
— Вырешим вот, который, совсем не принимать тебя. По твоим кулацким рассуждениям.
— Ты погоди, Егор, не кипятись, — Умнов ласково положил ладонь на руку Егора. — У нас еще много будет разговоров с людьми, и надо степенно это. Ты его извини, Харитон Федотыч, человек только-только из больницы. Ранение… Так. Хм. А вообще-то, конечно, так, хотя как рассудить. Он, Егор, и правду сказал: без имущества не об чем разговаривать. У тебя, Харитон Федотыч, грамоты достаточно, и ты сам можешь понимать, что один отец твой не мог бы сколотить такого хозяйства. Не под силу это одному. Верно, батя твой — хозяин, добрый, в земле хорошо толкует, живет со смыслом, но все время кто-нибудь из батраков гнет на него репицу. Гнет спину за кусок хлеба. Много-немного, но в вашем хозяйстве есть чужие труды… Дак ты, Харитон Федотыч, тоже не становись на дыбы, а рассуди по самой правде и верни эти чужие труды обществу. Хоть бы и нас взять с Егором — поработали на ваших полях да покосах. Попервости сослепу-то ломили без передыху. Это уж последние годы подумывать стали да принялись зубатиться за себя. Все законно, Харитон Федотыч, делают власти, и ты не сердись. Сколь ни принесешь в артель, все равно лишков не будет с твоей стороны. Не будет лишков.
— Яков Назарыч, ты по-доброму говоришь сегодня, спасибо на этом. И я тебе скажу по-доброму: брал батя работников, ругался с ними вдосталь, как цепной кобель. Было. Но вот ты, Яков Назарыч, за последние пять лет сдал хоть пуд хлеба государству? Чем помог Красной Армии, городу, Советской власти? А батя за эти годы не одну, поди, тыщу пудов свез. Теперь вот и суди, кто за кого ломил хрип. Он третьего года в казенном лесу на пяти лошадях сел, поясницу надорвал с мешками, а потом всю зиму лежал бревном. Думали, не встанет. И летось его хватило, думали, крышка.
— Это было, Харитон Федотыч. Было.
— И не только это. А ты, Егор, вообще помалкивай в тряпочку. Всю страду провалялся по чужим ометам, а мой больной старик обмолотил полтора десятка кладей. Сам стоял у барабана.
Егор Бедулев вдруг весь встряхнулся, выпрямился, одичал глазами, не умея остановить их ни на чем.
— Яша, ты, который, можно я ему рубану? Скажу я ему, а? Вы с отцом на молотилке людей обдирали, а я лежал, потому сельсоветское задание имел. Не будет тебе приему в колхоз, так и заруби на носу. Вот.
— Егор, Егор. Ты как во хмелю.
— Хмелен я от них, Яша, долгим хмелем они меня опоили.
— И ты, Харитон Федотыч, тоже круто берешь. Можно и полегче. Хм. Мне ехать теперь, и разговор этот кончим. Пиши заявление, чтобы мы разбирали тебя со всем хозяйством. А коль опять с голыми руками, так лучше и не ходи. У нас тоже есть дела.
— Если так ставишь вопрос, Яков Назарыч, и не приду. В город с Дуней уедем.
— Выметайся, который. Эко напугал — в город он со своей Дунькой.
Харитон вышел, а Егор все не мог уняться, подскочил к окну, прокричал вслед:
— Образина кулацкая. Эко напужал. Уедешь ли, поглядим еще, который.
— Это ты, Егор, напрасно. С руганью-то совсем ни к чему. Мы власть на селе, как скажем, так тому и быть. Без ругани. Ты слышал, чтобы уполномоченные, какие из города, когда-нибудь ругались? Вот и не слышал. А делается все по-ихнему.
— Ай, верно, Яша, — подал голос дед Филин и сел на скамейку, стал выколачивать трубку прямо на пол. — Ругачеством даже забора не подопрешь.
— А пепел, дед, почему на пол валишь?
— Так его, Яша, так, старого неряху, — засмеялся дед Филин и, опустившись на колени, стал собирать пепел в кулак.
В рождество истекал второй срок уплаты долга за купленную у Кадушкина молотилку, и Аркадий Оглоблин, загрузив две подводы мясом, а в передок головных саней умостив бочонок с маслом, выехал в Ирбит, где в канун праздников всегда хорошо шел съестной товар.
Перед дорогой нахлебался жирных суточных щей, завернулся в тулуп, и тепло лежалось меж свиных туш, только по заиндевелым лошадям и угадывал, что стоял лютый мороз.
Ехал ночью. Громко стучали по накату сани, скрипели перевяслами, а на поворотах подрезы с визгом стругали хрустящую колею. Месяц в последней четверти, сутулый и вытощавший, слева переходил дорогу, потом кособочился прямо над дугой, высекая на стылой упряжи холодные и кроткие искры, а к утру скоро, скоро покатился под уклон, будто совсем ослабел, делаясь все тоньше, все прозрачней, как подмытая льдинка. И чем заметнее он исходил, опускаясь, тем светлее становилось окрест: дальше проглядывалась дорога, подвытекла темнота из придорожных перелесков.
Хорошо заправленные кони взяли дорогу без остановки на кормежку, только дважды насыпал им в торбы овса да сбил наледь с копыт. В город въехали при солнце, когда на кладбищенской церкви звонили к поздней заутрене.
Рынок перед праздником гудел. В горластой толпе наяривали гармошки. За простаками и девками вязались с гаданием цыганки, мелькала карусель под звон медных тарелок. Из дверей закусочной валил пар пополам с дымом. Пахучим скоромным дразнили железные печки, на которых китайцы жарили мясные пироги и в засаленных нарукавниках зазывали, улыбчиво распяливая губы:
— Горясие. Горясие пироски!
Рублевки и трояки, которые они желобком держали в горсти, тоже становились сальными — хоть бросай на противень и жарь.
— Вед-ррраа пачиним! Ка-рррытта, — выкрикивал жестянщик и бил молотком по железу.
Я вспомру, я вспомру,
Ах вспохоронят меня, —
гнусавил босоногий детина с перевязанными ушами.
У фотографа цепочка приодетого народа. Мужики в черном, степенные, как во́роны, бабы в цвету, наперед испуганные важной церемонией. Перед аппаратом натянут холст, на котором намалеваны горы, и в виду их тонконогий скакун с всадником в седле. Всадник с головы до ног обвешан оружием и в правой руке держит наган. А вместо лица пустой овал. Очередной клиент заходит за холст, поднимается по ступенькам и вставляет в овал свое построжевшее лицо.
— Рожей непохожий, — зубоскалит какой-то остряк, но в очереди его никто не поддерживает: на карточке все выйдет как заправдашное.
С возов в углу рынка зазывали в два голоса:
— Кошек, мерлушек на чашки менять!
Оглоблин приценился к мясу и оба воза продал оптом. С маслом пришлось постоять, однако невдолге за полдень сбыл и его. Можно бы сразу и домой, потому что кони отдохнули и схрумкали по ведру овса, но мать послала Семену Григорьевичу рождественских гостинцев, и надо было заехать к нему.
К воротам вышел сам Семен Григорьевич, в высокой меховой шапке, и, как ни отказывался Аркадий, уговорил гостя ночевать.
В столовой, где Елизавета Карповна собирала ужин, при ярком огне висячей лампы Аркадий с забавным любопытством разглядел себя в большом от пола до потолка зеркале. В раме из мореного дуба стоял подобранный в ребрах узкоплечий мужик, с тонким некрестьянским лицом, отбеленными на ветреном солнце бровями и косицами давно не стриженных волос. К притомленным полевым светом глазам сбегались светлые морщины, в постоянном прищуре не тронутые загаром. Аркадий поплевал на ладони и примочил волосы, широкие рукава его рубахи без обшлагов засучились, обнажив черные, как рама зеркала, руки. Он смутился за свою короткую рубаху, все время вылезавшую из-под опушки штанов, смутился за волосы, о которых никогда не думал, смутился за руки, широкие в запястьях и задубевшие, и когда сел за стол, то далеко отодвинулся от него, чтобы, не залапать накрахмаленной скатерти.
— А как поживает ваша сестра Дуняша? — спрашивала Елизавета Карповна Аркадия и, не дожидаясь ответа, говорила: — Да вы садитесь ближе. Вот видишь, Сеня, Аркадий всегда чувствует себя у нас чужим. Это потому, что вы, Аркаша, редко бываете у нас. А он, по-моему, милый человек, этот Харитон. Как вы думаете? Дуняша, должно быть, счастлива с ним? Не так ли?
Елизавета Карповна обращалась одновременно и к гостю и к мужу, и Аркадий не успевал следить за ее речью, тем более что неожиданно стал думать о том, что у него теперь есть достаточно денег и надо завтра же купить себе что-нибудь из одежды. Ведь это стыд, к добрым людям зайти не в чем. Зарос, как медведь, и расчески не имеется.