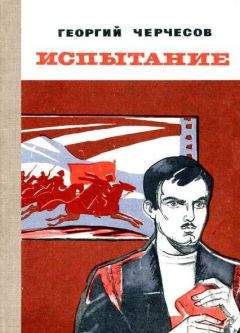Но порой какая-то мелочь, удачный взгляд актера, по-новому осмысливающий весь эпизод, жест или необычная деталь наполняет тебя гордостью. И вдруг чувствуешь, как радость отрывает тебя от земли, и кажется, что ты на пороге славы, что фильм твой непременно будет признан и то, что вчера еще представлялось поверхностным и никчемным, сейчас выглядит значительным, что расшатает прежнюю теорию кино, заставит профессоров прийти в восторг от новоявленного чада, забыть прежних идолов и лихорадочно строчить новые страницы учебников, где будет значиться твое имя. И ты, опьяненный близким видением, вдохновенно бросаешься в самую гущу массовки и пытаешься построить новую мизансцену. Хмельной от своих видений, ты заражаешь всех вокруг легкостью и оптимизмом, и у всех все получается как никогда, и оператор восторженно вертит камерой, напрочь позабыв о метраже, — и кадр получается что надо… И длится это до тех пор, пока ассистент не спохватится, что на актере не та рубашка, в которой он вчера вошел в этот кадр, и выясняется: все, что отсняли сегодня, — брак, потому что такие фокусы, когда актер приближается к дому в черной сорочке, а на пороге оказывается в белой, — у зрителя не проходят. Это раньше малоквалифицированная публика могла проглотить все, а сейчас… И начинается скандал. Савелий Сергеевич сперва обрушивается на ассистента, потом на художника, потом на Майрама, требуя сейчас же, немедленно ответить, как это он мог забыть, что вчера был в черной рубашке, а сегодня напялил на себя белую… И Гагаев молчит в ответ, ибо не хочет подводить художницу, которая сунула ему в руки белую рубашку и убежала в поисках актера, исполняющего другую роль, чтобы и его поскорее нарядить…
Теперь Майрама переодевают в черную сорочку, а белую теребят, бросают на землю, топчут ногами, проклинают, забывая, что через два дня она нужна будет… И заново начинается съемка эпизода. Но теперь все идет вкривь и вкось. Ничего не получается. И статисты вялые, и актер забывает текст, и мизансцена не та… Режиссер в отчаянии, оператор проклинает пленку и ее создателей в далекой Шостке, художники прячутся, стараясь не попадаться на глаза начальству, а директор, сжав голову ладонями, пытается отогнать охватившее его плохое предчувствие, которое вот-вот унесет его в безумие…
Это и есть кино. Так оно рождается — в муках и страданиях.
Поразительно ощущение, когда вдруг ты — и ты и не ты; взглянешь в зеркало — на тебя смотрит знакомый незнакомец. А мимика, каждый жест — твои. И поневоле чувствуешь, что ты уже не тот, что прежде, что теперь от тебя ждут и совсем другого поведения, и иных поступков, и даже походки. Точно подтягиваешься ты под пристальными взглядами многих людей, всматривающихся в тебя, запоминающих тебя… И сам вдруг начинаешь следить за собой, фиксировать в уме каждый шаг, каждое движение, оценивая его по взглядам окружающих людей… Удивительно, как обостряются твои чувства, как отдается звоном каждое произнесенное слово, как мягки шаги, как натянуто, натружено тело…
Первое недоумение пришло во время съемки прощания Мурата и Таиры…
— …По лицу твоему не видно, что ты любишь ее, — рассердился Савелий Сергеевич. — Смотришь-то ты безо всякой нежности и все норовишь в сторону. Представь, что перед тобой твоя любовь! Неужто ни разу не любил! Ну, вспомни ту, с кем встречаешься!..
Майрам представил Валентину — и режиссеру пришлось прервать съемки. Снова начались репетиции… Конов все наседал на него, убеждал, что он должен любить Таиру, да так сильно, что даже не сметь смотреть ей в глаза.
— Ты бросаешь на нее взгляд хищника. Отыщи в памяти образ, к которому ты неравнодушен, — умолял он. — И постарайся представить перед собой ее! Ну!
— Савелий Сергеевич! Никто из моих знакомых не заслуживает того, чтобы Мурат ради них шел на ад, — морщился Майрам.
— Ну, скажи, кого привести сюда и поставить перед тобой, чтоб взгляд у тебя стал другим, не таким жестким? — бросился к Майраму Михаил Герасимович. — Топчемся над таким малюсеньким эпизодом целый съемочный день! — хватался он за голову и тыкал его в бок кулачком. — Назови фамилию ее — и я из-под земли достану твою любовь и притащу к тебе силком!
Наташу! Майрам представил себе, как директор отправляется за Наташей, и улыбнулся. Нет, с ней не совладеть. Ни за что не согласится появиться здесь… И силком не получится…
— Вот-вот, наконец-то вспомнил, да? — обрадовался Савелий Сергеевич. — Теперь держись за нее обеими руками! Не от пускай! Степан, мотор!..
Так с помощью ничего не подозревающей Наташи они преодолели этот рубеж. Майрам представлял себе, как она будет смотреть фильм и не знать, что во время съемки эпизода прощания Мурата с Таирой незримо присутствовала на этой горной тропинке, о существовании которой она и не подозревает. И еще он подумал о том, что, возможно, фильм обратит Наташино внимание на него. Женщины падки на славу. А фильм сделает его знаменитым, Майрама будут узнавать на улицах, в трамвае, на проспекте! И она, конечно, поймет, что он именно тот, кто ей даст счастье. И тогда он ей все поведает, и приведет сюда и покажет то место, где она стояла, а он улыбался ей нежно и с тайной мечтой… Да, так будет, так будет… Не может не быть так! Ведь кино всесильно!
* * *
В Куртатинском ущелье оставалось отснять только прибытие Мурата в родной аул после скитания по миру. Надо было отснять сейчас, чтоб потом больше в ущелье не возвращаться. Утром Савелий Сергеевич приступил к репетиции. Он напомнил, что будет снимать этот эпизод в трактовке Майрама…
— Мурат в самом деле не мог нарядиться пугалом и в та ком виде предстать перед земляками, — заявил режиссер и по хвалил: — Тут ты, Майрам, оказался проницательнее сценариста и режиссера… Проницательнее меня, черт побери! — Савелий Сергеевич дружески потрепал его за плечо. — Твое возвращение на родину я вижу так…
Не спуская с «актера» глаз, он подробно рассказывал о чувствах, с которыми Мурат рвался домой, он вдалбливал в него мысли, которыми был переполнен горец, проскитавшийся многие годы вдали от дома, но не забывший вкуса горного воздуха, дурманящего запаха альпийских трав, рокочущего ворчания реки, волнующей близости родного неба, цепляющегося пушистым шлейфом облаков за скалистые вершины гор.
— Ты тонко подметил, — моргнул Майраму режиссер. — Конечно же, Мурат мечтал возвратиться таким же, каким покинул горы. Он не мог, не смел, не имел права предстать перед невестой, отцом и строгими земляками в инородном облике. Черкеска, — но из лучшего сукна, сапоги, — но из мягкой кожи, ослепительно блестящие, башлык — белоснежный, как шапка Казбека, пояс — посеребренный, дорогой, с тяжело и уродливо свисающим на нем старинным дедовским кинжалом, — этим весомым доказательством отцу, горцам, всему миру, что честь фамилии и аула не посрамлена Муратом, что он остался верен своему на роду, его обычаям и традициям, что он прямо может смотреть каждому в глаза… Он возвращается издалека — но он свой! Он весь — свой! Мурат даже сам не подозревал, как он изменился. Если хочешь знать, Майрам, — он пытался — неосознанно! — забыть все то, что видел за время скитаний, напрочь вычеркнуть из своей памяти эти пропащие годы. Он жаждал поскорее окунуться в жизнь аула, раствориться среди своих, зажить их жизнью, их заботами и привычками, чтобы вновь стать прежним — хозяйственным, работящим, безотказным Муратом… И жить ему прежними представлениями о смысле и цели существования человека, быть ему пастухом и землепашцем, послушным сыном и строгим мужем и отцом, верным хранителем заветов предков и приверженцем вековых обычаев…
Не такой души человек Мурат, чтоб забыть то, что видел и чувствовал! Он не мог — слышишь, Майрам?! — не мог забыть, не мог! Так! Только так! — бормотал Конов, расхаживая. Замерев перед ним, неожиданно заискивающе, стесняясь, умоляя Майрама и голосом и взглядом, попросил: — Ты уж вот это донеси, старик, — и прошептал: — Я выдаю тебе свое сокровенное, давно уже зародившееся намерение. По моему глубокому убеждению, этот эпизод — наиболее ответственный момент во всем фильме. У меня есть свое видение его. Он будет жестким до жестокости, горьким до боли, несправедливым к Мурату… Но он раскроет сущность возвратившегося, нового Мурата. Прежнему, молодому Мурату неудача с заработком денег на калым могла бы исковеркать душу. Теперь — нет! Теперь его, закаленного в невзгодах, ничто не сломит. Он выдержит любую бурю…
… Они трижды начинали съемку возвращения Мурата. По команде режиссера Майрам вышагивал по тропинке, — но за четыре часа так и не приблизился к аулу. Объявив съемочной группе перерыв, Конов устало опустился рядом с ним на траву, тоскливо прошептал:
— Ты чересчур стараешься, Майрам, без чувства меры. У тебя и в походке, и в жестах, и во взгляде появились нарочитость, искусственность, фальшь… И они бросаются в глаза. Видно, что это не твое, а придуманное. Ты стал ломать свою натуру. А мне этого не надо. Меня в тебе привлекла естественность поведения. Все, что ты делал, получалось у тебя непринужденно, потому что ты не думал, как это сделать: ты просто шел, садился, улыбался, сердился, ел, говорил… И все это так, как десятки, сотни раз проделываешь в жизни — без рисовки… Сейчас не то! Сейчас ты насильно подделываешься под Мурата.