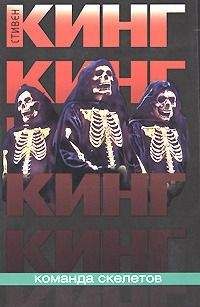Оба были во власти любви, и им необходимо было как можно скорее одуматься, очнуться, чтобы окончательно не погубить друг друга. Близость лишь мешала им здраво рассуждать, трезвым взглядом посмотреть друг на друга и спокойно, без волнений выяснить, насколько может быть оправдана их совместная жизнь. Вот отчего мать Гелы уехала из Батуми. Да, да, только поэтому. Разумеется, домыслы соблазнительное истины, но если интересоваться истиной, то она в этом и только в этом. Мать Гелы твердо верила, что так будет лучше для них обоих. «Вот будет плясать от радости», — воображала она встречу с Лизой, чтобы не думать о муже, об оставленной мужу записке («Люби свой Батуми. Прощай»), чтобы вообще ни о чем не думать. «Если можно, один билет до Тбилиси», — сказала она, не глядя в окошечко кассы, нетерпеливо роясь в наспех набитой самым необходимым дорожной сумке в поисках кошелька.
— Один? — удивилась касса.
— Да, один… Один, — отозвалась она с внезапным раздражением, не поднимая головы.
Она все еще рылась в сумке, разыскивая на дне кошелек, словно ничего, кроме кошелька, не потеряла, словно самой большой ее заботой был сейчас этот потерянный кошелек. «Вас это удивляет?» — внезапно поняв смысл вопроса, невольно подняла она взгляд. Улыбка, полная симпатии и доброты, скользнула по ее лицу, как ласковый солнечный луч, и она вновь опустила голову. Она еще больше смутилась и растерялась от этой улыбки, вырвавшейся, как солнечный луч, из забранного железной решеткой окошечка и призывавшей своей простотой, бескорыстностью, чистотой к исповеди и раскаянию. «Все меня знают… Оттого что я жена своего мужа», — подумала она со злостью и с гордостью. Сначала с гордостью, а потом со злостью. Ей стало ясно, чему удивлялась касса, — без мужа никто не мог представить ее себе, без мужа она не существовала. Она чуть не крикнула: «Не смотрите так, вы ведь ничего не знаете!» — но вовремя сдержалась. Да и с какой стати ей было отчитываться перед каким-то кассиром, сидевшим здесь за окошечком только для того, чтобы выдавать билеты всем желающим, если, конечно, у них имелись деньги, чтобы заплатить за билет. «Боже мой, куда провалился этот кошелек, — простонала она, лихорадочно шаря рукой в сумке. — Кому какое дело, в конце концов», — огрызнулась она неизвестно на кого. «Надеюсь, мы скоро снова вас увидим», — послышался голос, такой же ласковый, такой же добрый, как улыбка. «Да… Не знаю… Посмотрим», — вскинула она голову, как лошадь, отмахивающаяся от овода, и почему-то представила себе полковника Везиришвили; похлопывая себя белой перчаткой по руке, он говорил ей с липкой, плотоядной улыбкой: «Надеюсь, вы когда-нибудь соизволите оказать нам честь и осмотреть нашу казарму… Честь имею. Честь имею. Честь имею». Она снова вскинула голову и вернулась к кассе. «Я — это я, а мой муж — это мой муж», — объяснила она кому-то в уме. «Вот он!» — вскричала она обрадованно, нащупав наконец кошелек. Пришел конец этой пытке, и незачем ей трястись и дрожать, не с чего мучиться угрызениями совести из-за слащавой улыбки этого кассира — как будто здесь не касса, а исповедальня, и за решеткой восседает сам господь бог. На полу звякнула монета, выпавшая из кошелька, когда она доставала бумажные деньги; но она даже не посмотрела на пол, так ей не терпелось отойти от кассы.
Она еще не успела осмотреться дома, сумка еще висела у нее на руке, еще от нее пахло поездом, в ушах еще отдавался стук колес, когда Лиза радостно возвестила ей: «Твоя мать нашла замечательного врача, он тебе и плод вытравит, и даже вернет тебе девственность». О своей беременности мать Гелы сообщила из Батуми своей матери еще до того, как убедилась сама. «Кажется, я скоро тоже стану мамой», — писала она как бы в шутку, на самом же деле потрясенная приближением таинственного события, самого значительного для нее в ее жизни; но о том, оставить ребенка или избавиться от него, она ни с кем не советовалась — лишь мужу заявила однажды в приступе гнева: «Не жди, что я рожу в наемной комнате; не птица же я, не какая-нибудь голубиная самка, чтобы мне было безразлично, где родится мои ребенок, дадут ли ему вырасти или выметут его веником вон». Но это она сказала в сердцах, и вообще все это касалось только ее и ее мужа, было исключительно их делом, и никто другой не имел права вмешиваться. И поэтому слова Лизы привели ее в неописуемую ярость. Она даже забыла положить сумку, висевшую у нее на руке. Она кричала, как дворничиха, — грязная, невыспавшаяся, вся пропитанная поездными запахами, словно какая-нибудь бродяжка. Она хотела только одного — заглушить, стереть, похоронить, уничтожить то, что сказала Лиза. Высоко подняв обеими руками сумку над головой, она надвигалась на Лизу, а та, зажав руками уши и выкатив глаза от страха, медленно отступала перед нею. Она не отдавала себе отчета, не замечала, что делает, — не Лиза, а Лизины слова маячили перед нею, уворачивались от нее, словно маленькие скользкие, холоднокровные животные. Никогда не чувствовала она себя такой беспомощной, оскорбленной, одинокой и, главное, никогда не ощущала так явственно и четко силу скрытых ее доброжелателей или скрытых вершителей ее судьбы, которые через Лизу объявляли ей свои соображении и свои решения и которые не только были способны содержать и всесторонне обеспечивать ее, но даже, сверх всех иных благ, могли возвратить ей девственность, заштопать ее, как чулок со спущенной петлей, словно девственность была не более чем чулок: хочешь — скинешь и выбросишь, а хочешь — починишь, и будет как новая. «Не нужен мне ваш врач, и не собираюсь я возвращать себе то, что отдала по своей воле и без вашего разрешения и чего очень многие не смогли бы отдать, даже если бы захотели!» — кричала она, ужасаясь своему бесстыдству, распаленная и подавленная своей несправедливостью, так как сознавала, что бедная, глупая, простодушная Лиза была мячом, а не лаптой, стрелой, а не луком, трубой, а не трубачом. Но женское чутье, инстинкт, побуждающий защищать самолюбие и честь больше, чем саму жизнь, приказывал ей оглохнуть, ослепнуть, лишиться здравого смысла, и она не решалась направить свое возмущение, свой гнев по настоящему адресу: ведь теперь, когда она уехала от мужа, «родительская тюрьма» была единственным возможным ее пристанищем. Таким образом, по существу, она и сына родила как бы назло Лизе, так как только таким образом могла снова приманить его отца и своего мужа — уже избавившегося от ига, уже наслаждающегося свободой — и доказать старой дуре, что твердо стоит на ногах и не нуждается в возне с докторами. Впрочем, родив ребенка, она в действительности свершила суд, «привела приговор в исполнение», как выражался ее отец и как писали обычно в газетах, так как была не женой, а палачом отца своего сына. Лиза ходила по соседней комнате с ее ревущим ребенком на руках, а она лежала с широко раскрытыми глазами и считала минуты, часы, дни, стараясь точно определить, когда ее письмо дойдет до Батуми, стараясь точно, со всеми подробностями представить себе, когда и как оно будет вручено ее мужу. Наверно, письмо доставят ему в театр, потому что дома, конечно, не смогут его застать (разве станет сидеть дома одинокий человек, да еще актер!). И, наверно, почтальона, белобородого Иасона, окружат уже в дверях любопытные актрисы: скажи, не томи, кому письмо? А когда узнают, на чье оно имя, то совсем переполошатся и станут вырывать письмо друг у друга из рук — каждая будет считать, что именно она должна его передать. (Тбилисский артист пользовался большим успехом среди батумских женщин; когда на каком-нибудь очередном пиршестве он, уже подвыпив, вскакивал на стол, чтобы сплясать на нем, и раскидывал чуть ли не от стены до стены свои могучие руки, встряхивая своей гривой, статный и осанистый, как Мачабели, женщины таяли, сходили с ума, окружали мать Гелы, как дети — продавца сладостей, и наперебой, со вздохами и стонами выражали ей свое восхищенно и зависть: «Ах, какая вы счастливая женщина!») Наконец какая-нибудь из актрис — Амалия, Флора, Элико или Сидония — завладеет письмом и, кудахча как курица, бросится к адресату, чтобы получить от него поцелуй в награду. Но это совсем не важно, это не волнует мать Гелы: она никогда не была ревнивой, — напротив, ей льстило, что муж ее нравится женщинам. Она и в мыслях не могла допустить, чтобы могло быть иначе. Но она лучше знала своего мужа, и сейчас, лежа на спине, с широко раскрытыми глазами, она пыталась представить себе, как подставляет щеку ее мужу для поцелуя Амалия, Флора, Элико или Сидония, — ей важно было не проглядеть, заметить, как сбежит краска с его лица при виде письма («Ах, письмо! От кого это, кто меня вспомнил?»). Он, конечно, сразу догадается, от кого, но не подаст виду, рассеянно возьмет у Амалии, Флоры, Элико или Сидонии письмо и рассеянно засунет его себе в карман, всей своей повадкой показывая, что ничего особенного не произошло и что ему сейчас не до писем. И снова, как за минуту до того, примется мерить шагами сцену и, чтобы прочистить стиснутое от волнения горло, чтобы «найти голос», несколько раз протянет: «Благодаааарю вааас, мииилая Амааалия» (или милая Флора, милая Элико, милая Сидония — в зависимости от того, кому выпадет честь передать письмо). Но и это неважно, и это — не главное. Главное еще впереди. И у матери Гелы от напряжения болели глаза, раскалывалась голова, она нечеловеческим усилием пыталась переселиться отсюда, из Тбилиси, в душу своего мужа, посмотреть своими глазами, что в ней делается, какие мысли, соображения, намерения сменяются в ней, уничтожая друг друга. И вот наступает решительная минута, ее муж не может больше терпеть гнетущую его неопределенность и, запершись в уборной («Нет! Нет! Нет!» — кричит она беззвучно самой себе — не хочет, чтобы муж читал в уборной письмо, написанное рукой беглянки жены от имени еще неизвестного ему сына)… запершись в своей комнате, дрожащими пальцами вскрывает конверт, боязливо разворачивает сложенный вчетверо листок — словно ожидая, что оттуда выскочит скорпион! — и тотчас же как жало скорпиона вонзятся в его грудь два первых слова: «Здравствуй, папочка» (ха, ха, ха). Здравствуй, папочка! Так кричат окруженным, припертым к стене повстанцам: бросай оружие!