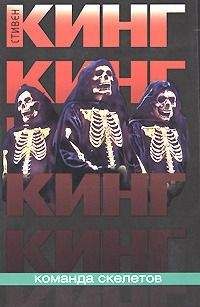— Значит, вот как? Вот как, говоришь? — повторяла она бессмысленно, как безумная, и дыхание у нее спирало от ярости.
— Да, вот так. Именно, — отвечал упрямо муж.
Между прочим, то, что она так поспешно, раньше, чем сначала хотела, уехала домой от мужа, было в известной степени заслугой полицмейстера — пожирателя стекла. Ничего подобного она никогда до того не видела, да и не слыхала о таком. Весь вечер она сидела за столом ошеломленная, испуганная, растерянная, криво улыбалась, изо всех сил стараясь играть роль гостеприимной хозяйки и замирала от страха, ожидая, что у полицмейстера вот-вот хлынет кровь изо рта. А тот беззаботно, с хрустом жевал стекло, — точно это было печенье — и безостановочно говорил, говорил, растягивая слова и спотыкаясь, и бесконечная болтовня его не имела смысла, а вид у него был такой, словно он сообщал что-то очень значительное и торопился, чтобы успеть высказаться до конца, а если бы остановился, то тут же испустил бы дух. Но он не останавливался, не умолкал. Мать Гелы так и не могла припомнить, стих ли наконец этот скрипучий, раздражающий и в то же время одуряющий голос или она выключилась сама, потеряла способность восприятия действительности, той действительности, к которой уже не принадлежала, к которой отказывалась принадлежать. От хруста стекла, сокрушаемого крепкими жующими зубами, мороз продирал ее по коже, и улыбка, застывшая у нее на губах, означала лишь утрату связи с собственным существом; неосознанная эта улыбка просто осталась замороженной на ее лице с той минуты, как впервые ударил по нервам скрежет стекла, раскрошенного зубами полицмейстера. Лицо ее улыбалось, как висящая на стене маска, ничего не говорящая о тайной, незримой, непостижимой жизни души, а лишь выказывающая то, что на ней нарисовано, да еще чужой рукой. «Боже мой, боже мой, боже мой!» — думала мать Гелы все с той же неподвижной улыбкой. А пожиратель стекла все так же тянул и выдавливал слова, все так же спотыкался, хрустел и скрежетал. Он подхватывал ладонью снизу полный бокал, как бы для того, чтобы не пролить вино на скатерть, — дескать, вот какой я воспитанный, цивилизованный человек, — и, выпив вино, тотчас же откусывал от бокала и принимался жевать, как корова в стойле; замолкал он ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы отправить вино себе в глотку, но и в эти секунды голос его не переставал звучать; тяжелый, грубый, он наполнял всю комнату и, казалось, изгонял из нее весь воздух. Они были окутаны, затоплены этим голосом, похоронены под ним, они вдыхали этот голос, заполнявший до отказа их легкие. Впрочем, остальные — гости — не обращали на все это никакого внимания (видимо, успели привыкнуть, как японцы к землетрясениям) и спокойно ели, пили, смеялись и беседовали. «Нет. Это самое, изволите ли видеть. Фу, черт. Эталон. Да. Эталон, — бормотала, булькала, лопотала и по пути все заносила слоем хрустящего стеклянного песка разлившаяся река бессмыслицы. — Хрррршшш… хрррршшш… хрррршшш…» «Нет, это безумие, это уже безумие», — думала улыбающаяся маска. А ее драгоценного мужа радовала роль главы дома и гостеприимного хозяина, и он с какой-то восторженной почтительностью ставил перед этим олицетворением неприличия, бессмыслицы, глупости, вместо одного съеденного бокала — другой. «Лакей. Лакей. Лакей, — думала улыбающаяся маска. — Вот на кого он променял моего отца. Вот кому вверил свою судьбу. Вот от кого ждет желанной свободы. И позволения создать собственную семью». Обуреваемая такими мыслями, она минутами уже не могла разобраться — любит или ненавидит своего мужа; но при этом туманно чувствовала, догадывалась, что на одной любви или одной ненависти нельзя построить совместное существование, что она будет мучиться, как мать недоношенного ребенка, до тех пор, пока не замесит любовь на хлипкой грязи ненависти и из двух этих страстей не получит одно, новое чувство, новую, единую силу, которая, несмотря на свою двойственную природу, будет постоянно направлена к одному и тому же предмету, явлению, понятию, к одной и той же цели и, что важнее всего, сможет сдвинуть с места, повезти ее саму, как мул в упряжке… Да, да, не лошадь и не осел, а именно мул, так как, подобно мулу, и эта сила не рождается сама собой в природе; для рождения мула нужно скрестить коня и ослицу, и точно так же, чтобы обрести подобную силу, необходимо скрестить любовь и ненависть; а кому это не удастся, кто останется без мула (как это произошло с ее мужем), тот с самого начала обречен на гибель и должен примириться с этим (как примирился ее муж). Сначала, однако, надо понять, а потом уже и примириться. Но, чтобы понять, надо сперва пройти долгий путь от кровати с продранной сеткой в общежитии до города пожирателей стекла; надо вначале воротить нос от главного судьи губернии, чтобы он, не дай бог, не счел тебя одним из своих, ровней себе, а потом заискивать перед полицмейстером проституток и контрабандистов, чтобы он не взломал полы у тебя в театре. И вместе с тем доказывать свое благородство женщине, которая заранее все предусмотрела и твердо рассчитывала на это «благородство», когда отправилась в общежитие, чтобы, пожертвовав девственностью, вывести из лабиринта героя своих грез. И напоследок «великодушно» отказаться от всего, приобретенного ценой «благородства», но ничего не суметь совершить в доказательство и утверждение тех же благородства и великодушия без кавычек. Мать Гелы прекрасно понимала уже, что муж ее не герой. «Лучше хотеть и не мочь, чем мочь и не хотеть», — постоянно повторял он, потому что его устраивала такая жизнь; повторял до тех пор, пока его личная свобода не оказалась в опасности, пока его — для вида отпущенного на волю — не заманили обратно в узилище, не притянули на веревочке из Батуми. Человек ведь, как и любое другое животное, больше боится пленения, нежели самого плена! Заприте дверь в комнату перед человеком, вышедшим на балкон, и он сразу разволнуется, высадит дверь плечом, как будто, если он останется на балконе еще хоть минуту, рухнет мир, — а между тем, если бы вы не заперли дверь, ему, быть может, еще не скоро захотелось бы вернуться в комнату. Словом, лабиринт, из которого вывела своего героя мать Гелы, был под стать самому герою. Потому что настоящие герои, вырвавшиеся из настоящих лабиринтов, никогда не женятся на глупых девчонках, бездумно предающих своих родителей и сломя голову, как сумасшедшие, убегающих вон из своего беззаботного, безбурного детства, словно из охваченного пожаром дома, чтобы спасти и погибнуть — спасти случайно проходившего мимо их детского окошка статного, осанистого Мачабели, незнакомца с львиной гривой… и погибнуть самим, счастливым, полным радости жизни, ради той единственной ночи, ради той, тщательно сохраняемой до самой смерти рубашки, на которой пятна от вишен, съеденных тайно от нянюшек в постели, выглядели бы гораздо уместней и естественней, чем кровь девичьей невинности. А с отцом Гелы получилось как раз наоборот: это он хотел быть спасителем и погиб, потому что не он, а мать Гелы была из породы героев. Он не сознавал, на что на самом деле идет, а мать Гелы все знала наперед. У него сердце замирало от страха, а мать Гелы нисколько не стесняли ни доносившиеся из коридора нелепые, путающиеся и перебивающие друг друга, словно в разгаре ссоры, голоса, ни глобус с нахлобученной кепкой на шкафу с выбитыми стеклами, ни три пустых, наскоро застланных кровати, делавшие комнату похожей на тюремную камеру или больничную палату.
Оба были во власти любви, и им необходимо было как можно скорее одуматься, очнуться, чтобы окончательно не погубить друг друга. Близость лишь мешала им здраво рассуждать, трезвым взглядом посмотреть друг на друга и спокойно, без волнений выяснить, насколько может быть оправдана их совместная жизнь. Вот отчего мать Гелы уехала из Батуми. Да, да, только поэтому. Разумеется, домыслы соблазнительное истины, но если интересоваться истиной, то она в этом и только в этом. Мать Гелы твердо верила, что так будет лучше для них обоих. «Вот будет плясать от радости», — воображала она встречу с Лизой, чтобы не думать о муже, об оставленной мужу записке («Люби свой Батуми. Прощай»), чтобы вообще ни о чем не думать. «Если можно, один билет до Тбилиси», — сказала она, не глядя в окошечко кассы, нетерпеливо роясь в наспех набитой самым необходимым дорожной сумке в поисках кошелька.
— Один? — удивилась касса.
— Да, один… Один, — отозвалась она с внезапным раздражением, не поднимая головы.
Она все еще рылась в сумке, разыскивая на дне кошелек, словно ничего, кроме кошелька, не потеряла, словно самой большой ее заботой был сейчас этот потерянный кошелек. «Вас это удивляет?» — внезапно поняв смысл вопроса, невольно подняла она взгляд. Улыбка, полная симпатии и доброты, скользнула по ее лицу, как ласковый солнечный луч, и она вновь опустила голову. Она еще больше смутилась и растерялась от этой улыбки, вырвавшейся, как солнечный луч, из забранного железной решеткой окошечка и призывавшей своей простотой, бескорыстностью, чистотой к исповеди и раскаянию. «Все меня знают… Оттого что я жена своего мужа», — подумала она со злостью и с гордостью. Сначала с гордостью, а потом со злостью. Ей стало ясно, чему удивлялась касса, — без мужа никто не мог представить ее себе, без мужа она не существовала. Она чуть не крикнула: «Не смотрите так, вы ведь ничего не знаете!» — но вовремя сдержалась. Да и с какой стати ей было отчитываться перед каким-то кассиром, сидевшим здесь за окошечком только для того, чтобы выдавать билеты всем желающим, если, конечно, у них имелись деньги, чтобы заплатить за билет. «Боже мой, куда провалился этот кошелек, — простонала она, лихорадочно шаря рукой в сумке. — Кому какое дело, в конце концов», — огрызнулась она неизвестно на кого. «Надеюсь, мы скоро снова вас увидим», — послышался голос, такой же ласковый, такой же добрый, как улыбка. «Да… Не знаю… Посмотрим», — вскинула она голову, как лошадь, отмахивающаяся от овода, и почему-то представила себе полковника Везиришвили; похлопывая себя белой перчаткой по руке, он говорил ей с липкой, плотоядной улыбкой: «Надеюсь, вы когда-нибудь соизволите оказать нам честь и осмотреть нашу казарму… Честь имею. Честь имею. Честь имею». Она снова вскинула голову и вернулась к кассе. «Я — это я, а мой муж — это мой муж», — объяснила она кому-то в уме. «Вот он!» — вскричала она обрадованно, нащупав наконец кошелек. Пришел конец этой пытке, и незачем ей трястись и дрожать, не с чего мучиться угрызениями совести из-за слащавой улыбки этого кассира — как будто здесь не касса, а исповедальня, и за решеткой восседает сам господь бог. На полу звякнула монета, выпавшая из кошелька, когда она доставала бумажные деньги; но она даже не посмотрела на пол, так ей не терпелось отойти от кассы.