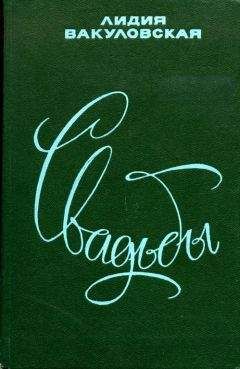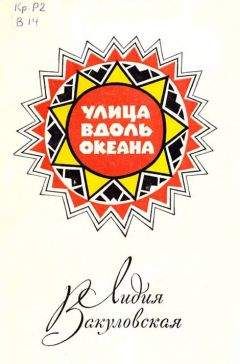За ним не спеша сошли бригадиры, направляясь к притуленным к заборчику велосипедам с вышарканными седлами.
Под окном конторы мотал хвостом сивый, запряженный в двуколку жеребчик, объедал ветку акации. Грудка ловко перевалил в двуколку свое грузное тело, натянул вожжи. Бригадиры быстро погрузили в машины велосипеды, повлазили в кузова.
Снова зачихали, заурчали моторы. Снова поехали. На зеленом выгоне под низкими вербами развернулись назад, на колхозное подворье, за лопатами, ведрами, вилами. Впереди машин резво бежал сивый жеребчик, круто выгибал тонкую шею и заливисто ржал.
Инвентарь разобрали быстро. Побросали в машины, развернулись, опять поехали. За селом притормозили — пастух, щелкая кнутом, сгонял с дороги пестрое стадо неповоротливо-ленивых коров. Потом дорога завертелась по скошенному полю, по березовому душистому леску, тронутому осенним увяданием, перепрыгнула через речушку, заскакала по холмам.
А вот и картофельный участок — необозримая площадь серого песчаника, еще недавно покрытого темно-зеленой ботвой, ныне усохшей до черноты. Далеко слева тянется длинная полоска кустарника, справа, на оголенном горизонте, пузырятся скирды, впереди темнеет лес, за чубатой гривой которого осталась усадьба «Красного луча».
Бригадиры и старшие в группах шагами отмерили каждому норму — узкую полоску от дороги до самого леса, площадью примерно в двадцать соток.
Люди рассыпались цепью и пошли, склоняясь и разгибаясь, по рыхлой земле, выворачивая лопатами облепленные клубнями корни. Женщины копали, носили ведрами и корзинами картошку, ссыпали в кучи, мужчины вилами грузили в машины. Перекликались, сыпали шутками, подзадоривали друг друга. В разных концах поля то вспыхивала, то обрывалась песня. К одиннадцати утра пять машин повезли картошку в дальнее село, за железную дорогу, — сдавать на спиртзавод, другие пять встали под погрузку.
А солнце не по-сентябрьски ярилось, палило кожу, прожигало спины, воздух раскалялся, тяжелел. Пить, пить — нестерпимо всем хотелось пить!.. С надеждой поглядывали в сторону далекого дуба при дороге, за которым еще утром скрылся на двуколке под резвым жеребчиком Петро Демидович Грудка, а за ним и бригадиры на велосипедах. Грудка обещал «сию минуту» прислать водовоза с бочкой воды, а к трем дня — «борща з бараниной та груш на закуску». Но пусто было на дороге, где томился в солнечном мареве ветвистый дуб. И люди с легкой досадой, со смешком перекрикивались:
— Где же их вода?
— Улита едет — когда-то будет!
— Родничок бы поискать!
— Родничок в таких песках? Да тут Днипро пересохнет!
— Надо же, и бригадиры укатили!
— Куда иголка — туда и ниточки!..
Но цепь не рассыпалась, цепь все дальше продвигалась от дороги к лесу, все выше вздымались горки картошки, розовой и желтоватой, и все так же перехлестывались в жарком воздухе голоса. И когда солнце раскаленным шаром зависло на самой середине неба и совсем стало нечем дышать, кто-то крикнул так, что заломило в ушах:
— Во-ода-а-а!.. Bo-ода е-е-еде-ет!..
Тогда цепь дрогнула, разломилась — все побежали к дороге, утирая на ходу платками и подолами кофточек потные, горячие, грязные лица.
Однако то, что кто-то по причине плохого зрения или марева принял за водовозку, оказалось легковой машиной. «Волга» стремительно приближалась, все дальше оставляя за собой одинокий дуб и заволакивая его тучей пыли. Одни перестали бежать и повернули обратно, другие по инерции продолжали брести к обочине.
«Волга» шла на хорошей скорости и промчалась мимо, подняв над дорогой плотную дымовую завесу. Но те, кто оказались у дороги, уже не спешили воротиться назад, а принялись снова осуждать председателя Грудку и острить по поводу такого его нехорошего поведения. Но, как ни странно, говорили о нем без злости, а в шутливом и веселом тоне. Говорили и сами же посмеивались:
— Грудку солнышко растопило — шибко жирный он!..
— Грудка груши на обед нам трусит!..
— Поскакал на вороном затычку к бочке искать. Да, видать, не нашел, так новую в кузне клепает!..
Но машинистка Пищикова, болезненная с виду женщина, с зелеными навыкат глазами, не приняла этого тона.
— Не затычки, а уважения к людям у этого Грудки нет! — раздраженно сказала она, передернув худыми плечами. — Вот мы его на исполкоме проработаем!
— Ах, Ольга Павловна, перестаньте, — вежливо сказал ей часовщик из «Бытремонта» Лейкин. — Можно подумать, что вы не машинисткой там сидите, а целый день исполком за председателя проводите.
— А это, Яков Соломонович, не ваше дело, где я сижу, — отвечала ему Пищикова, нервно раскуривая папироску «Север».
— Где мне надо, там и сижу. Я в ваши часы не лезу, и вы ко мне не лезьте.
Чернявая женщина, с глазами-смородинами на чистом румяном лице, ласково сказала Пищиковой:
— И чего это вы, женщина, серчаете? Он же вам ничего обидного не сказал.
— Вот именно! Все слышали, что я вам ничего такого не сказал! — вежливо развел руками Лейкин. — Это вы, Ольга Павловна, нервничаете на меня потому, что ваша Аллочка провалилась в институт, а наш Миша сдал на круглое пять, хотя они вдвоем готовились и дружат. Но при чем же я? Каждый понимает, что я совсем ни при чем.
— Ах, Яков Соломонович, не лезьте к моей Аллочке, а то я вам сейчас кое-что скажу!.. — нервно ответила ему Пищикова.
— А что вы мне такого можете сказать? Мы с вами двадцать лет соседи, так я вам могу похуже вашего сказать! — возвысил голос Лейкин, утрачивая прежнюю вежливость.
В это время высокая девушка в коротюсенькой юбочке, искавшая что-то в траве, резко выпрямилась и весело сказала:
— Между прочим, вы ссоритесь, потому что не подвезли воду. Это, так сказать, побочная реакция. Но, честное слово, в жару пить вредно. По-моему, председатель правильно делает.
— Тогда зачем же ты сама сюда прибежала? — спросила Пищикова, глядя на девушку уничтожающим взглядом.
— Между прочим, не «ты», а «вы». И я, между прочим, заколку потеряла. И, вот видите, нашла ее.
Девушка показала Пищиковой золотистый зажим, тут же воткнула его в распадавшуюся копну рыжеватых волос и, блеснув белыми зубами, легко, почти вприпрыжку пошла прочь, дерзко запрокинув рыжеватую копнистую голову.
— Это что еще за птица? — выкатила и без того крупные зеленые глаза Пищикова. — Посмотрите, какая на ней юбка! Это же стыд и срам!
— Так это ж Тонька, сродственница моя, — фальцетом отозвался горбоносый тестомес Стрекоза, удивляясь, как это Пищикова, которая всегда обо всем осведомлена, не знает его двоюродной племянницы.
— И где она, интересно, у нас работает? — строго спросила его Пищикова.
— Как это — где работает? — Еще больше удивился Стрекоза. — Да она ракетами для засылки на Луну занимается.
Тут как-то сразу все оживились, обступили Стрекозу и наперебой стали спрашивать:
— Ракетами?! Да не может быть!.. Чтоб такая пигалица — ракетами?..
— Да что я вам, брехать буду? Математичка она, — стал гордо объяснять Стрекоза. — Она в одной академии училась, а теперь ее засекретили.
— Позвольте, позвольте, да как же она сюда попала? — принялся насмешничать Лейкин, ни на йоту не веря Стрекозе. — Насколько я вижу, здесь картошка растет! Или, может быть, вы скажете, что это ракетодром Байконур?
— Так она ж у своей тетки отпуск гуляет. Считайте, у моей сестры двоюродной. За нее и на картошку поехала, — с той же гордостью объяснял Стрекоза. — Во-он они с мужем лопатят за машинами, видите? А он у нее физик какой-то, тоже засекреченный.
— Ах, вот как! — похоже, поверил ему часовщик Лейкин. — Тогда, я вам скажу, это почище, чем певец Полухин, который из Киева к брату приезжает!
Пищикова докурила папироску «Север», бросила на землю окурок, придавила его носком резинового сапога и сказала:
— Пускай они себе Луной занимаются, а нам пора картошку копать. Прошу всех разойтись по рабочим местам! — и первой зашагала на поле.
Когда начала спадать жара и день покатился к вечеру, стало ясно, что ни воды, ни «борща з бараниною» не будет.
Солнце изменилось. Еще недавно пыжившееся блеском, поливавшее землю жаром, оно притуманилось, съежилось и по-осеннему вяло садилось на лес. Темп работы спал. Не слышалось ни шуток, ни бездумной веселой переклички. Люди, жадно кинувшиеся с утра в непривычную работу, порядком устали. Лопаты отяжелели, ведра казались набитыми камнями. И все чаще присаживались отдыхать, все труднее подымались после отдыха. Мужчины без конца курили, стараясь табаком приглушить неприятные позывы голода. Женщины ладились печь картошку в дымных костерках из бурьяна, но из затеи ничего не выходило: бурьян не давал нужного жару… А до конца поля, до нормы в двадцать соток было еще далеко, хотя лес приблизился, стоял почти рядом, посвечивал белыми стволами берез, полнил воздух запахом осеннего тления…