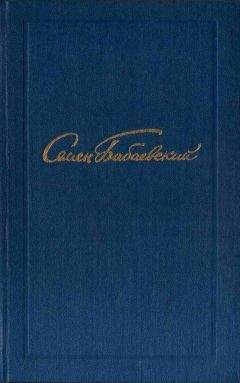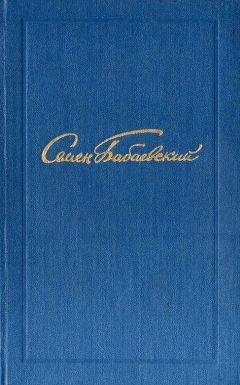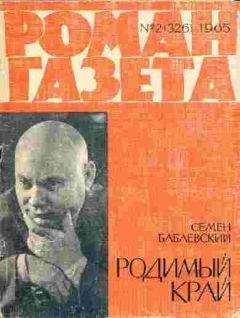— Витя как-то спрашивал: зачем нам столько кроликов?
— Ничего, подрастет, все поймет.
— А вчера пришли со школы, накормила их. Вижу, что-то оба надутые, молчат, — продолжала Клава. — Петя не смотрит на меня, опустил голову, а Витя — он побойчее — спрашивает: «Мама, это правда, что наш батя хоронит деньги в кубышке?»
— Так и спросил? Чертенок! И что ты ответила?
— Сказала, что неправда.
— И откуда им, стервецам, такое известно?
— Говорят, что в школе слышали от мальчишек. — Клава с жалостью, влажными глазами смотрела на мужа. — Никита, чтоб люди не болтали, не держи деньги дома, положи их от греха на книжку. Сколько же им храниться под периной?
— Пусть полежат, хлеба не просят.
— Купил бы что-нибудь. Люди покупают…
— Что покупают? Барахло, да?
— Вон зоотехник Анастасьев недавно заимел «Москвича». Брат твой Петро собирается покупать «Жигули». Ты же шофер, вот мы бы и ездили.
— Куда нам ездить? Зачем ездить? Эх, Клавдия, умная ты баба, а дура! — Никита рассмеялся. — Одного грузовика с меня предостаточно, посидишь день за баранкой, сойдешь на грешную землю, а тебя покачивает, как пьяного.
Завизжало, скользя по проволоке, кольцо, и Никита увидел в окно, как Серко, взъерошив загривок, с лаем кинулся к воротам.
— Поди, Клава, узнай, кто там к нам пожаловал, — сказал Никита, продолжая смотреть в окно. — Ежели из гаража, то скажи, что меня нету дома, мол, еще не приходил.
Клава с трудом усмирила хрипевшего от злости Серка, отвела его к будке, там привязала и только потом уже вышла за калитку. Вернулась в дом и сказала:
— Дядя Евдоким. К тебе.
— Чего ради? — удивился Никита. — Я не приглашал. Наверное, негде бедняге пообедать, не у кого поживиться водочкой, вот он и забрел к нам. Шаблается, как приблудный!.. Ну что ж, скажи, пусть заходит, дорогой гостюшка, узнаем, чего ему нужно.
«А может, это и хорошо, что Евдоким к нам пожаловал? — подумал Никита. — Потолкуем с ним, пусть подсобляет Клаве. Дорого не возьмет, ему только покажи рюмку. А силенка у него еще имеется. Как это говорится, на ловца и зверь бежит»…
Встречаясь с Евдокимом, хотя и не часто, Никита смотрел на этого заросшего бородой человека то с удивлением, то с неприязнью и всегда видел в нем не родственника и не равного себе, а, как он любил говорить, «еще и до сей поры живущее кулацкое отребье». В души он радовался, что Евдоким носил старенькую черкеску, потертую кубанку, постоянно был голоден и никому не нужен. Ему нравилось, что Евдоким, раскинув на спине свой синий, давно вылинявший от солнца и дождей башлык, слонялся по станице, как попрошайка, в надежде где-нибудь поесть и выпить рюмку водки.
Проводив Евдокима в дом, Никита сразу же усадил его за стол, велел Клаве, чтобы поставила еду и водку. Никита тоже подсел к столу напротив Евдокима и с любопытством смотрел, как тот легко, охотно выпил водку, как жадно ел ломтиками нарезанное сало, пятерней брал соленый огурец, и засовывал его в косматый рот, и с хрустом жевал стертыми и еще крепкими зубами. Нравилось Никите видеть в своем доме не дядю, а «живого кулака», потому что можно было показать свое превосходство над ним, посмеяться над его казачьим одеянием, напомнить ему прошлое и сказать, как же далеко он отстал от жизни.
— Евдоким Максимович, чего это ты сегодня как новый гривенник? — спросил Никита, глядя на ловко подстриженную бороду Евдокима. — Кто это тебя так красиво подмолодил? Не иначе — муженек Эльвиры?
— Он самый, Жан Никитич, — ответил Евдоким. — Бедовый мастер! Ты к нему еще не захаживал? Поди, поди, пусть он твою кудлатую голову малость подчистит.
— Как-нибудь зайду. — Глаза у Никиты озорные, со смешинкой. — Евдоким Максимович, в таком подновленном виде ты сильно похож на Карла Маркса, честное слово! А вот одежонкой своей смахиваешь на побитого казачьего атамана времен гражданской войны, черт!
— Не насмехайся надо мной, Никита, и не гневи. — Евдоким ладонью вытер рот, продолжая жевать. — Раз уж посадил за стол и попотчевал водочкой, то и дай мне спокойно насытиться.
— Гневить тебя я не собираюсь, и ты ешь, насыщайся себе на здоровье, мне не жалко. — Все с тем же озорством Никита посмотрел на занятого едой гостя, налил ему вторую рюмку. — Выпей еще, мне ведь это зелье употреблять нельзя по причине моей шоферской профессии. — Подождал, пока Евдоким выпил водку. — Евдоким Максимович, мне давно хотелось с тобой потолковать о житейских делах, и чтобы мирно, спокойно, по родственному.
— О чем же мы можем толковать-то? Поясни.
— Ну хотя бы о том, что мы с тобой родичи, ходим по одной земле, живем в одной станице, а во всем, чего ни коснись, мы разные, — пояснил Никита. — Разные и по годам: я гожусь тебе в сыновья, — и особенно разные мы по нашему экономическому положению: у меня есть все, у тебя нету ничего. Но главное в том, что мы еще разные, как говорится, в самой нашей классовой сути. Тебе это понятно? Вот ты ешь мое сало, пьешь мою водку, а я гляжу на тебя, ты извини, как на живого кулака и думаю: интересно бы знать, что за эти тяжкие для тебя годы у тебя скопилось на душе? Что там, внутри, у тебя творится?
— Душа — потемки, ее не выверяешь, не покажешь.
— И не выворачивай, не показывай, не надо. Но скажи мне по-честному: все еще злобствуешь на советскую власть? Все еще живет в тебе, ворошится к ней злючая ненависть? Как, а?
— Хитер ты, Никита! — Теперь уже Евдоким сам наполнил рюмку, опрокинул ее в рот, закусывать не стал. Хочешь знать мою тайну?
— Хочу.
— Откровенно? По-честному и по-родственному? Так, что ли?
— Давай, давай, именно так!
— Могу сказать. Давеча смотрел я на твое подворье.
— Понравилось?
— Ничего, живешь хозяином. Жила в тебе крепкая, крестьянская. Хлев для кабанов, курятник, крольчатники — все чин по чину.
— Небось в душе-то ёкнуло, защемило?
— Допытываешься? Нет, Никита Андреевич, в души моей и не ёкнуло, и не защемило. Былое, как во сне. — Блестевшими, уже осовелыми глазами Евдоким смотрел на Никиту. — А все ж таки я порадовался, что живет в тебе, Никита Андреевич, хозяйская жилка, не умерла, не сгинула. Хотя и не увидел во дворе ни конюшни с конями, ни брички, ни плуга, ни бороны, а на сердце у меня — и ты должон меня понять, — на сердце отозвалось что-то свое, родное. И когда ты еще там, во дворе, сказал мне, что мы с тобою разные, я с этим не согласный. В том-то и штука, Никита Андреевич, что мы с тобою не разные, нет!
— Ты что, сдурел? Как это так — мы не разные?
— Так вот — не разные… По годам, верно, различие имеется, и в том, что я пребываю в бедности, а ты в богатстве, с этим не спорю. А в остальном прочем — нет, мы не разные. Ить свое, собственное, как когда-то меня, и тебя ишь как приголубило, обласкало, свое, родное, как и мне, тебе ближе всего и роднее всего. Так ведь?
— Смешной же ты старик! — Никита через силу смеялся, и лицо его багровело не от веселости, а от злости. — Да знаешь ли, кто ты есть? Или уже позабыл? Кулак! Понял? В банде пребывал, оружие против советской власти поднимал. Да как же ты можешь со мной равняться, черт!
— Равнение-то наше имеется промеж нас не по нашему нынешнему положению, а по нашему духу, им мы роднимся, и ты не кипятись, — спокойно говорил Евдоким и как ни в чем не бывало снова принялся за сало. — Теперешнее твое нутро-то и мое нутро прошедшее схожие; ей-богу! Вот в чем вся штуковина! И через то мин радостно.
— Так, так, значит, радуешься? — Никита усмехнулся. — Знать, роднимся мы духом и нутром? Придет же в голову такая чертовщина! Да ты сперва загляни в свое нутро. Нашу новую жизнь — это всем известно — ты возненавидел еще в молодости, оттого и бездельничаешь все эти годы, тунеядствуешь. Бастуешь! А я ее, нашу новую жизнь, люблю, труд свой в нее вкладываю и считаю, что никакой лучшей жизни человеку не требуется. Ты же и сейчас, уже состарившись, все еще ждешь, что колхоза не станет, бродяжничаешь по станице, родного брата, знатного труженика, и всех нас, твоих родичей, позоришь… Так где же, извиняюсь, в чем именно ты усмотрел это самое наше родство по духу и по нутру? Нету его, того родства, и быть не может, черт!
— Опять вскипел? Знать, взяло за живое. — Евдоким выпил еще одну рюмку. — А ты осмотрись хорошенько. По природе оба мы хозяева, жадные до собственности. Приведу пример. Допустим, прихожу я до Максима. Как и ты, свой племяш. Во дворе у него, как на курорте, чистенько, повсюду травка, цветочки, дорожки. Гляжу на всю эту красивость, а в душе моей пусто, ничто ее не тревожит и не радует. Вот и выходит: родной племянник, а чужие мы с ним. А прихожу к тебе, погляжу на твое подворье, и в душе моей все переворачивается. Былое вспоминается. И становится мне не только радостно, а и завидно… А почему? Да потому, что нутром своим мы с тобой родные. Смекаешь?