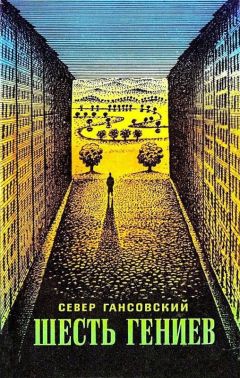Вода! Ею все здесь жило, расцветало, буйно росло. Свежесть и сиянье, исходившие от нее, накладывали на все окружающее отпечаток праздничности.
Рыболовы торжественно дремали в камышах. Дикие утки со своими выводками плавали поблизости, как домашние. Морские гости — белоснежные чайки-хохотуньи, смеясь, кружили над водяными зеркалами.
Но ту сторону прудов, окруженный асканийской детворой, стоял у воды Яшка-негр, весело бросая с берега какую-то пищу птицам.
— Смотри, Любаша… и он здесь, — удивилась почему-то Ганна.
— А что ему, — пожала плечами Любаша. — Печенья напек, мороженого накрутил — и айда, как мальчишка, по Аскании. Это его любимое дело — чаек кормить.
Выбрав место, Ганна присела на берегу, вытянув ноги, с интересом наблюдая за негром и чайками, которые бились перед ним крылатой снежной метелью. Вчера Любаша, выполняя волю паныча, позвала негра, и он явился под вечер в дом приезжих, чтобы развеселить Ганну игрой на гитаре. Странное чувство охватило Ганну, когда она впервые встретилась взглядом с этим чернокожим великаном, который пришел ее развлекать. Скорее больно, чем приятно стало ей оттого, что он вытянулся перед ней, как перед госпожой, ожидая приказа. И не столько черной кожей поразил он Ганну, сколько взглядом, глубоким, горячим, полным искреннего удивления и затаенной скорби. Ганна почувствовала себя вдруг пристыженной и словно чем-то виноватой перед ним. Может, у человека горе, а ему велят идти развлекать кого-то. Зачем? Ганна рада была совсем отказаться от этого развлечения, но Любаша уже схватила Яшку за руку, посадила возле себя:
— Играй!
Смущение Ганны, как бы передавшись негру, сделало его неуклюжим, еще больше, видимо, растревожило и обострило в нем ощущение своей подневольности. Сидел мрачный, как туча. Потом резко, почти сердито ущипнул струну и… струна лопнула.
— Что ты деваешь, Яшка? — вскрикнула Любаша. — Ты нарочно?
Яшка поднял глаза на Ганну, облегченно вздохнул:
— Не хочет сегодня струна играй… Я просил извини…
Ганне тоже как будто легче стало.
— Я прощаю, — сказала она. — Не надо сегодня… Иди.
На том и закончилось вчера Яшкино выступление.
Сегодня негр, видимо, был в лучшем настроении. Стоял, выпрямившись, на берегу, улыбался чайкам, и чайки отвечали ему смехом.
— Они его нисколько не боятся, — сказала Ганна. — Вьются возле самых рук, как голуби…
— Крошки выхватывают, — объяснила Любаша. — А потом — птица, она тоже человека чует, знает, кто ее обидит, а кто нет… Яшка для них свой.
— Разве чайки тоже оттуда налетают, из его теплых краев?
— Может, и оттуда… Может, привет ему от отца-матери принесли…
— Видно, и ему не сладко здесь, — задумалась Ганна. — Одному среди чужих людей…
— Сейчас хоть разговаривать немного научился, а раньше ни слова по-нашему… Он же басурман был, а потом игуменья выкрестила его… Только чудной какой-то: ни с кем из челяди не хочет компанию водить… Все больше с детьми, или в саду где-нибудь, или в зверинце… Там, правда, у него приятелей хватает: страусы, зебры, антилопы — то всё его земляки. Как и Яшку, их тоже оттуда вывезли, из-за морей, где никогда снега не бывает…
— Хорошо, верно, там, — размечталась Ганна. — Недаром туда птицы на зиму улетают…
— Может, и хорошо, да не всем… Иначе, зачем бы Яшке здесь быть?
— И то правда… Неловко вчера у нас с ним вышло… Сердитый он?
— Нисколько. Даром что такой здоровяк, а душа у него мягкая, как у ребенка…
— Глянь, Любаша, — радостно воскликнула Ганна, — уже чайка у него на руках!..
— Приворожил-таки!
Негр стоял в кругу восторженно щебечущей детворы, прижимая к груди большую белую птицу, нежно поглаживая ее. Ганне почему-то припомнился сейчас один вечер на Кураевом. Всходила луна, они стояли с Вустей на краю табора, — Вустя ждала своего Леонида.
Он пришел и забрал Вустю, и вдвоем они пошли в степь, весело разговаривая, смеясь, а Ганна, оставшись одна, вернулась в табор. Оглянувшись через некоторое время, она вся загорелась от чужого счастья: Леонид нес Вустю в степь на руках, нес так легко и нежно, как этот негр несет сейчас к воде свою чайку… Подошел к самой воде, подбросил высоко над головой — лети!
Возбужденный, веселый, он что-то громко сказал ей вслед на своем непонятном языке, и Ганне показалось, что пущенная чайка и все ее подруги сейчас понимают его язык, и самой Ганне вдруг захотелось постичь их радостную чудесную перекличку…
…Уже после захода солнца, возвращаясь в поместье, девушки неожиданно встретились с негром за камышами, возле Герцогского вала. Вежливо, с достоинством, он поздоровался, держась с ними, как с равными. Ганна еще прихрамывала, и когда поднимались на вал, Яшка подал ей руку, помог взойти. Черной была рука, но какой горячей, сильной и нежной!
Потом они разговаривали о чайках и страусах — о вчерашнем никто не вспоминал. Без привычки Ганне нелегко было понимать Яшкину ломаную речь, но все же главное она постигла: он рассказывал о своих упрямых земляках, которые даже здесь, в Аскании, не хотят отрекаться от привычек, приобретенных где-то там, в теплых краях. В самом деле, смешные! Нестись начинают не весной, как другие птицы, а глубокой осенью, ближе к зиме, когда кругом стужа свистит и морозы бьют…
— Верные на свой календарь оставайся, — весело объяснял негр. — Зима-весна перепутай…
— Ага, — догадавшись, засмеялась Ганна. — Когда у нас зима лютует, у них там как раз весна цветет… А когда приходит время, — то что им стужа? Они думают, что и у нас весна наступает…
— Разве они думают? — рассмеялась Любаша и вдруг застыла, изменившись в лице: — Ганна, барыня идет!
На тропинке при выходе из поместья появилась группа дам в длинных платьях и в шляпках. Софья что-то оживленно говорила приятельницам и была такая же широкоротая, как и вчера, когда лечилась солнцем в саду. Дрожь отвращения пробежала по телу Ганны, словно по тропинке прямо на нее шла вздыбленная саженная змея.
Обойти нельзя было. Возвращаться — поздно.
— Не бойся, — тихо сказал негр, и, не останавливаясь, они шаг за шагом двигались дальше — Ганна с негром впереди, а Любаша по пятам, прячась за их спинами.
Точно слепая, не вздрогнув, пропустила Ганна мимо себя надушенных женщин. Чувствовала, как обстреливают они ее из-под шляпок взглядами. Прикусив губу, Ганна давала им себя разглядывать, хотя сама не взглянула ни на кого. Бледная, напряженная, видела перед собой лишь темнеющие ущелья асканийских парков и распростертое над ними светлое крыло перистых неподвижных облаков.
Прошли, прошелестели барыни, словно горбатые ведьмы, и Ганна вскоре услыхала, как они, отойдя, захихикали и кто-то, кажется сама Софья, бросил насмешливо:
— Чем не пара была б?
Ганна промолчала. Молчал и негр, неторопливо ступая рядом и простодушно улыбаясь.
Гортанным неприятным голосом прокричал в темноте павлин.
Глухой ритмичный гул доносился от водокачки.
А со стороны моря над парками уже постепенно разгоралось кровавое зарево, словно кто-то разводил чабанский костер среди туч: так всходила луна.
XXXIII
В степных колодцах становилось заметно меньше воды. Тяжелые дубовые бадьи черпали ил с самого дна, поднимались на поверхность полупустые. Скот часами грудился у колодцев, дрался над корытами, с ревом набрасываясь на скупые колодезные остатки.
Лопалась раскаленная земля. Лежала в таких трещинах, что лошади ломали ноги на скаку. Трава, выгорая, свертывалась и ложилась на степь, сбиваясь, как войлок. С целинных земель горячие ветры уже разносили по всей Таврии семена тырсы, крепчайшей травы из семейства ковылей. Казалось, что из всей степной растительности только она, тырса, которая издавна взяла себе в союзники суховеи, сможет перенести лютую жару, выжить и продолжить себя в потомстве. Острые и крепкие, как стальные иголки, семена ее неслись над степью тучами мельчайших стрел и не просто ложились на землю, а впивались в нее своими жалами, выставив под ветер длинные тоненькие хвостики-сверлышки. Мириады таких ковыльных буравчиков, раздуваемых ветром, шевелились целыми днями в степи, впившись в сухой грунт, постепенно ввинчиваясь в него все глубже и глубже. Особенно много хлопот доставляла тырса чабанам, которые в дни ее облетания не знали, куда деваться с отарами. От летучих семян шерсть на овцах сбивалась комьями, до самых глаз запухали разъеденные остью овечьи морды. Ковыльные остюки въедались глубоко в тело, попадали в кровь, доходя иногда по жилам до самого сердца.
Все живое изнывало от немилосердной жары. Немногих могли спасти асканийские холодки! Как всегда, с середины лета во всех таборах был введен водяной паек. Приказчики экономили теперь каждое ведро, заботясь в первую очередь о скоте. От водного режима больше всего терпели те, кому приходилось работать на полях и токах, заброшенных далеко от таборных колодцев. Для них воду привозили водовозы, которые, однако, не могли обеспечить измученную жаждой многотысячную армию сезонного люда. Из-за воды между батраками и приказчиками то и дело вспыхивали острые стычки. Привозили скупо, с перебоями, да еще теплую, наполовину с илом — остатки того, что нацеживалось уже после водопоя скота. Правда, из асканийских артезианов воды хватило бы на всех, но артезианы — не для сезонников… Трудно было жить на скупом привозном пайке, считалось счастьем попасть куда-нибудь на работу при таборе, на тока, расположенные вблизи колодцев.

![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)