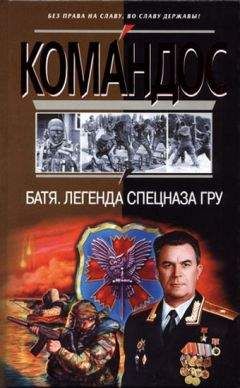— Не такая уж я изнеженная.
— Дело не в этом, а в сознании долга! — бросил Платон, сбегая с крыльца. — Счастливо оставаться!
Роза не ушла из поликлиники, хотя рабочий день кончился. Вернулась в кабинет, присела у окна, задумалась. И сторожиха, заглянув к ней, догадалась: неприятность у докторши. Хотела спросить — какая — и не осмелилась. Да мало ли о чем грустят молодые женщины!
Ввалившись в барак с кульками и свертками в руках, Платон поставил на стол вино, выложил закуску, пригласил всех, кто оказался не на работе, к столу.
— Так это — правда? И куда? — начались вопросы.
— Куда ж еще, як не на Балтыку! — пояснил Глытько. — Тилько по радио передавалы — начались бои под Выборгом. Про флот ни слова, но надо полагать…
— Страшные, наверное, бои идут, — протянул Климов.
— Нестрашных боев не бывает.
Разлив водку в стаканы, Платон поднялся:
— Ну, мужики, работать вам по-фронтовому! А тебе, Федор, особенно, за меня остаешься! Была бригада лучшей, такой должна и остаться. Вернусь, с тебя буду спрашивать.
— Даю слово, — поднялся Глытько. — Но может, скоро и мне вслед за тобой…
— Тогда другой разговор. А пока…
— За матроса Ладейникова! — поднял стакан Порфирий. — За будущего адмирала!
Открылась дверь, и на пороге вырос Родион Халява. Веселый, улыбающийся. В руках у него — сундучок.
— Пымали. Вора пымали!.. — возбужденно заговорил он. — И кто обокрал-то, да энтот же Глазырин!.. В каталажке сидит. А схватили его осодмильцы: на поезд, гад, поспешал, чтоб к себе в Челябу уехать. Билет заранее купил… Вот зараза! Все, значит, как следует, обдумал: и как цепь распилить, и энти, значит, винты ломиком…
— Да замолчи ты! — обернулся Федор. — Человек на войну уходит, а ты со своим сундучком. Пропади он пропадом!
— Кто, на какую войну?.. — раскрыл рот Халява.
— Смотри на него, ни дать, ни взять — дите малое! Там люди умирают, а он даже не знает, что началась война. Ты где живешь-то? В бараке или на Луне? Действительно халява!.. Да что с тебя возьмешь, — подобрел Климов. — Садись за стол, выпей, чтоб ему, Платошке, назад — с победой!
Родион подождал, пока нальют, и одним махом выпил все, что было в стакане.
Провожать Платона не пошел. Взгромоздил сундучок на койку, положил на него голову и, поджав под себя ноги, заснул.
Спал крепко, и ему, наверное, снилось свое, сундучковое счастье.
Месиво на дорогах за одну ночь превратилось в жесткий, бугристый лед. Колючим снегом бросался в лицо ветер, пронизывал до костей плохо одетых каменщиков. Богобоязный распорядился греть воду, прикрывать раствор рогожами: зима зимой, а план выполнять надо!
Став опять бригадиром, Колька заметно изменился. Первым являлся на работу, уходил последним. Его бригада все более набирала темпы и в течение последних месяцев пересела с «коня» на «трактор».
Глянув с лесов вниз, Дударев застыл на месте, держа в руках мастерок. Показалось, там — отец. «Не может этого быть», — подумал он. Об отце давно ничего не слышно. Сколько раз писал в Неклюдовку, деньги посылал — никакого ответа. Присмотрелся: вроде он и в то же время… Однако мысль, запавшая в душу, не давала покоя. Человек, появившийся на объекте, уж очень похож на отца. Рыжий, в заплатах кожух, старая заячья шапка… Бросив мастерок, Порфирий побежал вниз. Глянул в одну, в другую сторону: куда он девался? Завернул за угол, но и там, кроме своих рабочих, никого не было. Померещилось, наверное. Мало ли у кого рыжий кожух, шапка из заячьего меха. Тоже нашел примету!
Погревшись у костра, повернулся и побрел наверх. Проходя третий этаж, глянул в оконный проем и опять увидел отца. Да, теперь он точно узнал его.
Отец стоял с тыльной стороны здания и, задрав голову, как бы высматривал кого-то.
— Ба-а-тя! Ба-а-а-ть!..
Отец встрепенулся, все еще не видя сына. Но вот, различив его, поднял руку: наконец-то!
С тех пор, как они расстались, минуло около пяти лет. Живя в Неклюдовке, Порфишка не очень-то тянулся к отцу: отец часто выпивал и это не нравилось ему. А вот теперь нередко вспоминал его, беспокоился: как он там один?.. Однажды совсем было собрался в Неклюдовку, решил проведать старика, но поездке не суждено было сбыться. Как раз в эти дни его исключили из комсомола… Да и сам он с воспалением легких оказался в больнице.
Подбежав к отцу, Порфишка припал к его давно не бритому лицу. В сердце кольнула боль воспоминаний. Как трудно было с ним в Неклюдовке! От его скандалов и мать так рано ушла из жизни… Но отец есть отец. Какой бы ни был, а он у него — один!
— Бать, как же ты, откуда?.. — недоумевал сын. — Я и письма, и деньги тебе, а ты…
— Откуль же ишшо, как не из Неклюдовки! — осклабился отец. — С утра тебя ишшу. Как, значит, слез с поезда, ну и прямо в барак, а ты, выходит, на работе. Тут хлопцы — к кому, спрашивают, приехал? Успокоили: ты, говорят, батя, посиди в тепле, сын аккурат к вечеру будет. А мне вовсе не сидения, скорее бы тебя увидать. Спасибо, говорю, пойду, сам поишшу, посмотрю, как он на стройке змагается… Хлопцы, куда идти, показали, все, как следует быть. Вышел, значит, из барака, а тут — откуда ни возьмись — метель. Не метет, в глаза лепит… Все равно, думаю, не уступлю, найду. И пошел-то правильно, да повернул не там, где надо. Будто бес попутал. Часа два блуждал, у самой реки оказался. А река у вас, скажу, что Волга! Мужики сустрели: «Чего, старый, ищешь?» Так и так, говорю, жилой дом самый большой строится, сын там работает. Удивились они: эко, говорят, рванул, назад идти надо. На дорогу вывели: прямо, говорят, шагай!
— Постой, значит, ты из тюрьмы?..
Отец уставился на сына, ничего не понимая:
— То есть как? Слава богу не приходилось.
— Наболтали тут.
— Да ты в своем уме, что говоришь-то! С какой это стати меня в тюрьму? За что?
— Семка Пузырь сказывал, будто тебя судили… Недавно здесь появился. Приходил ко мне, деньги клянчил…
— Жулик он, Семка! — сплюнул отец. — В Неклюдовке последнюю тридцатку у меня выманил. Пристал: одолжи, говорит, дядя Иван, до вечера. Ну если так, бери… С тех пор сколько вечеров прошло, а его не видать, не слышно. Шантрапа несчастная! Моду взял: поживет в городе, промотается — и опять в деревню. Назанимает денег, наобещает всякой всячины — и опять в бега: ищи ветра в поле! Родного отца, слышь, до нитки ограбил… Значит, говоришь, сюда прибыл?.. Плут, как есть плут!.. А что в тюрьму меня, так за какую провинность?
— Будто вместе с Мельником…
— Брехня! Когда, значит, Мельник убег и его пымали в лесу, меня тоже в сельсовет вызвали. Ты, спрашивают, вместе с ним водку пил? Пил, говорю. Он, Полихрон Мельник, нальет, бывало, стакан, а потом — поди, говорит, Иван, коровник почисти, зря угощаю, что ли? И коровник, и отхожее место чистил. Навоз по весне на поля вывозил. Все, как должно быть, отрабатывал. Потому, как где ее взять, копейку-то, особливо зимой! Не понимал я, что он, значит, иксплотируеть. А когда его раскулачили — ко мне никаких претензий, потому как честно все обсказал. Председатель Гришка Самсонов еще бумагу такую выдал: бери, говорит, дядя Иван, энтот мандат и дуй куда хочешь, плотничай себе на здоровье. Не мозоль глаза, все равно от тебя, старого козла, никакой пользы. Но с кулачьем, говорит, впредь не связывайся, подведет тебя кулачье под монастырь, век плакать будешь… А я, вишь, по нужде к Полихрону-то… Он ить, Полихрон, хлебушком обещал платить… Ну пришел к нему: должок, говорю, за тобой, Полихрон Семеныч, изволь выдать! А он наливает стакан — пей! Огурец подает — закусывай! Ну, выпил, спрашиваю: иде же, говорю, пашаничка, которую обещал, вот я и мешок приготовил. Глянул он зверем на меня. Ты, говорит, здесь за столом сидел, пил, закусывал? Какую ж те ишшо пашаничку? Пошел вон! Вот так за мою же доброту меня и прогнал.
— Рассказывай, батя, все как есть, потому из-за тебя и мне досталось. Ничего не скрывай.
— Вот я и говорю: пил. А чтоб в какие нехорошие дела, супроть народу или ишшо чего, не в коем разе. Полихрон, верно, намекал, чтоб я, значит, красного петуха на конюшне пустил. Надо, говорит, так сделать, чтоб им, созовцам, ни пахать, ни сеять не на чем было! Вон куда гнул. Я сперва молчал, а потом возьми и расскажи Гришке Самсонову, председателю то есть. С этого все и началось. Следователь из района приехал, все подробно в книжечку записал: и как Мельник меня иксплотировал и чтоб красного, значит, петуха… Точно, говорю, науськивал, чтоб я зло делал… А я не мог, потому как всю жизнь строил, создавал… Жалко мне!..
— Значит, всего день и продержали?
— Ишшо потом Самсонов благодарность вынес: спасибо, говорит, тебе, дядя Иван, ты очень даже правильно, по совести, поступил… После дружки Полихрона хотели меня прикончить. Думал, шутят, ан нет. Две пули в окно пустили. Ушел я, не стал третью ждать. От греха подальше, думаю. Подрядился в другой деревне дом строить, все лето работал. Вернулся к осени, смотрю — на месте хаты — пепелище. Спалили, проклятые! Ничего теперь в Неклюдовке у нас не осталось. А тут ишшо болесть прилипла. Всю жизнь тяжелые бревна ворочал, вот и выходит — надорвался. Все равно, думаю, поеду. Может, там, на Магнитстрое, доктора есть, вылечат. А умру в дороге, так о чем жалеть: похоронят добрые люди.
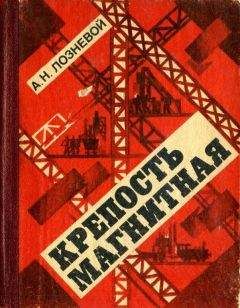


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)