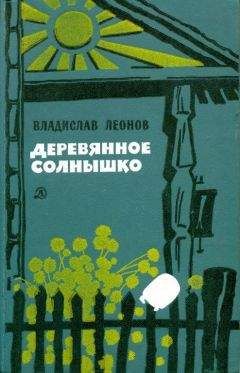— Женщине нельзя тяжесть-то...
— Ага, — пробормотала она. — Спасибо. Садись ешь. Для тебя старалась. Кто тебе без матери сготовит... Без матери теперь и голодным досыта насидишься...
Павлуня поднял в недоумении бровь, а Марья Ивановна грустно сказала:
— Уезжаю я, Пашка, далеко...
— Как? — испугался Павлуня. — Зачем это?
И она нехотя пояснила, что заболела вдруг тетя Сима из города Саратова и нужно срочно ехать к ней.
— Надолго? — спросил ошарашенный сын.
Марья Ивановна отвечала необычно тихим голосом:
— Кто ж знает... Я уж и отпуск оформила. Билет вот взяла. — Она издали показала его Павлуне. — Все теперь хозяйство на тебе — дом, огород... Можешь всласть изъездить его своими тракторами — твоя воля. И скотина вся на тебе: хочешь — корми, не хочешь — мори.
Павлуня пригорюнился. С детства ему везло на скотину. Да и все деревенские кошки и собаки любили его, словно догадывались, что он не ударит, не закричит. Теперь у ног трется Трофимова кошка — квартирантка, полюбившая Павлуню за ласку да за молочко. В конюшне по нему страдает Варвара, а в сарае ждет не дождется жирный боров.
— Когда ехать-то? — спросил сын.
— А теперь же, — ответила Марья Ивановна, поглаживая кошку, на которую только вчера ворчала и замахивалась.
Она встала, и на пол со стула упала толстая книга, которую последнее время Павлуня часто видел в ее руках. Книга раскрылась, из нее вылетел снимок.
— Трофим? — удивился сын, наклоняясь, но Марья Ивановна, опередив его, быстро подняла снимок, сунула обратно в книгу.
— А тебе-то что? — пробормотала она, не глядя на Павлуню.
Он почему-то покраснел, сказал неуверенно:
— Скоро приедет небось. Из санатория.
И тогда она закричала сердито своим всегдашним резким голосом, и щеки ее покрылись багровыми пятнами:
— Какой к черту санаторий! Кто тебе сказал?! Дурак он старый! Вцепился в свой совхоз! Ничего не нажил, одну болезнь! Ни хозяйства нет, ни рубля сбереженного, ни копейки лишней!
Марья Ивановна всегда ругалась, когда речь заходила о Трофиме, только ругань эта была какая-то жалостливая, обидчивая. И на сей раз Трофиму крепко досталось.
Павлуня слушал внимательно, не перебивая. Соображал. Когда мать запыхалась, он сказал с непонятной усмешкой:
— Привет передай. Тете Симе.
— Глупый ты, Пашка! — отрубила она и вышла, унося с собой толстую книгу с раскрытым секретом.
Через минуту она появилась, уже одетая, с чемоданом в одной руке и с авоськой в другой. На голове ее был теплый платок, на ногах — крепкие сапожки: мать собиралась далеко и надолго.
— Сейчас поеду, — сказала она Павлуне. — Только хозяйство погляжу.
Марья Ивановна вышла во двор. Павлуня остался, чтобы не мешать ей. Он видел в окно: мать все потрогала, за все подержалась, вернулась, на него не глядя.
Сердце у сына дрогнуло.
— Не бойся. Все будет в порядке.
Павлуня ждал, что мать примется долго и нудно наказывать ему, как беречь огород да кормить скотину, но вместо этого она с большим значением подняла к потолку толстый палец:
— Когда-нибудь поймешь!
Больше ни слова не сказала Марья Ивановна до самой остановки, а возле автобуса крепко поцеловала сына три раза.
Павлуня еще с детства отвык от материнских поцелуев, и теперь они растревожили его. Он долго шел за автобусом, махал вслед шапкой, шептал:
— Вертайся...
Взвихрилась снежная пыль и тут же улеглась. Павлуня присел на скамейку, стал думать о матери.
Если разобраться, Марья Ивановна, занятая своими заботами, не больно-то лезла в его жизнь. Он и при матери ходил сиротой в родном доме. Но все-таки кто-то всегда был рядом, шумел, сердился, изредка дрался, а теперь ему придется возвращаться в пустой дом, где нет ни голоса матери, ни грома кастрюль.
Павлуня хотел было подняться, но тут к остановке подошла Вика-заправщица с тяжелым чемоданом в руке. Чемодан тянул ее в одну сторону, а в другую тянули двое маленьких ребятишек, с хныканьем тащившихся за ней.
Она поставила чемодан, отодрала от себя ребятишек, сердито спросила Павлуню, был ли автобус.
Парень объяснил с сожалением:
— Только что... Теперь долго...
— Ну и черт с ним! — сказала красавица, усаживаясь и кладя ноги на чемодан.
Ребятишки полезли под ее руки, и она обняла их, согревая. Было тихо и темно, только возле остановки покачивался фонарь, бросая на снег пятна света.
Мимо прошли с гитарой совхозные парни. Они посмотрели на Вику, засмеялись, но не остановились и ничего не сказали. Дело было привычное: красавица опять убегала от своего Модеста в город, к матери.
Павлуня искоса поглядывал на четкий профиль заправщицы, на детей, свернувшихся на скамейке.
— Холодно ведь...
— Отвяжись!
— Да ведь замерзнут!
Вика встрепенулась:
— А ты чего тут расселся? Шлепай домой!
— Есть ведь хотят, — жалел Павлуня ребятишек, прикорнувших под руками матери, как цыплята под крыльями наседки.
Вика досадливо ответила:
— А тебе какое дело?
И перестала смотреть на него и говорить с ним.
Павлуня поднялся. Поплелся домой, вздыхая и мешкая. Позади раздался писк детей. Тогда парень скорым шагом подошел к Вике, молча подхватил ее чемодан и поволок.
— Стой! — погналась она за ним.
Ребятишки, отставая, бросились в такой дружный рев, что Вика остановилась. Пока она возилась с детьми, Павлуня дошагал до своей калитки и, отдуваясь, поставил чемодан. Подоспела встрепанная Вика.
— Ты что, сдурел?!
Она рывком схватила чемодан, тот упал Павлуне на ногу, парень заплясал.
Успокоившись немного, Вика спросила потише:
— Какого ты черта?
Павлуня сказал, что автобус будет теперь не скоро, а пока пускай ребятишки обогреются у него дома. Красавица долго не размышляла.
— Ну и ладно! — сказала она, с трудом вползая на крыльцо: на ней, словно раки, висели вконец сомлевшие малыши.
Войдя в дом, Вика встала посреди комнаты в своей шубке модного пошива.
Ее медвежата, зевая, стояли в одинаковых шубках и смотрели одинаковыми черными глазками.
— Раздевайтесь, — сказал Павлуня.
Вика ловко вытряхнула малышей из их шубеек, и они превратились из смешных медвежат в девчонку да мальчишку — Сашку и Алешку. На девчонке складно сидели брючки и кофточка, все нежного розового цвета, мальчишка был одет в синий матросский костюмчик.
Павлуня посмотрел на Вику.
Она провела белыми пальцами по застежкам, небрежно повела плечом, и на руки Павлуне упала холодная, пахнущая духами шубка. Дыша этими духами, хозяин отволок шубу на вешалку.
Близнецы спали на тахте. Вика наклонилась к столу, положив на него руки и распустив по скатерти золотые волосы. Они блестели под лампой, и Павлуня залюбовался — он любил красивое.
— Есть хочешь? — спросил он гостью.
Вика подняла голову, потянулась, зевнула сладко.
— Пойду. Мать твоя придет — так расчешет!
— Уехала, — кратко ответил Павлуня. — В Саратов.
— Ого-о! — сказала Вика, подняв брови: Марья Ивановна лет двенадцать никуда из совхоза не выезжала.
Павлуня провел гостью в комнату матери, показал, где лежат чистые простыни и наволочки, которые Марья Ивановна берегла для дачников.
— Бери. Все тут.
— Ага, — поблагодарила красавица и вдруг улыбнулась, пробормотав: — Вот теперь набегается, наищется теперь, чучело гороховое.
Павлуня, поняв, кто это «чучело», от души посочувствовал Модесту.
— Спокойной ночи, — вежливо сказал он даме, и та, широко зевая, невнятно ответила:
— И тебя тем же концом... Шлепай спать...
Павлуня постоял еще, подивился, как это такая красивая Вика может выговаривать такие некрасивые слова.
— Ну, чего вылупился?! — рассердилась гостья на хозяина. — Я спать хочу — обмираю, а он стоит!
Павлуня поплелся к себе. Он слышал, как Вика ходит по комнате, как шуршит ее платье, как ложится она в постель Марьи Ивановны. И почти сразу же послышалось ее сильное, ровное дыхание.
Следующий день был выходной. Женька, как условились, явился к Павлуне затемно с ящиком на плече и пешней в руке. Тихонько, чтобы не разбудить Марью Ивановну, пробрался на ощупь в комнату к товарищу, ожидая увидеть его в полном рыбацком облачении. Открыл дверь и остолбенел.
Павлуня, положив ногу на ногу, сидел в кресле под лампой и читал книгу. Он был в белой рубахе, которую раньше никак не хотел надевать из-за узкого ворота. На шее висел галстук, а на плечах топорщился черный, хорошо вычищенный пиджак. Брюки, видно, только-только наглажены — они еще дымились. Сверкали начищенными носами туфли.
Но больше всего Женьку поразила Павлунина прическа. Обычно Алексеич таскал расческу для порядка и пользовался чаще растопыренной пятерней. Сейчас его светлые волосы были старательно прилизаны, а на лбу закручивалась русая подковка.
Лешачихин сын поцокал языком:
— Прямо Есенин.
Отворилась дверь из комнаты Марьи Ивановны, и Женька вытаращил глаза: на пороге стояла лохматая, заспанная, но все равно красивая Вика-заправщица. На ней был старый халат Павлуниной матери, на ногах домашние туфли хозяина — теплые, мягкие, удобные.