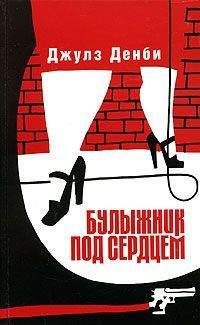— Я скажу всю правду. Нет, не о книжной фирме. О смерти Купреева. О том, как они украли его картины.
— Но ведь это не доказано.
— Они знают правду. И они должны ее бояться.
— Я к тебе сейчас подъеду.
— Нет, приезжай позже. А сейчас позвони Стивенсу и скажи, что интерес к изданию книги пропал, что отношения прерываются.
— Ты уверен в том, что задумал?
— Да, уверен.
— Может быть, все же я сейчас приеду?
— Нет, не надо. Я чувствую, что это единственно правильный путь.
Ветлугин сел за письменный стол и стал писать. Ему было необходимо письменно изложить логику обвинений. Он всегда делал записи, продумывал на бумаге то, что должен был высказать. После такой работы он никогда не нуждался в записях. Все уже было твердо уложено в голове.
Он писал долго, часа два. Это уже была основа статьи. А статью он завтра же напишет! Только надо действовать! — говорил он себе. Только правдой можно изменить положение вещей. Только правда всесильна! В этом истина.
Ветлугин выпил кофе, сжевал бутерброд, надел строгий темный костюм, голубую рубашку, красивый шелковый галстук. Он должен быть достойным представителем — да, и страны, и светлой памяти художника, который не хотел быть признанным на чужбине, а тем более и в мыслях не держал коммерческого успеха своих картин. Да, если они спасители, то пусть передадут картины в любую галерею — даже здесь, в Англии. Но не наживаются на них!
Ветлугин был весь сосредоточен на разговоре со Стивенсами и решил, что лучше ему отвлечься, а то перегорит вся сердитость. Лучше послушать классику в оставшиеся полчаса.
Он поставил Третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Напряженно поплыла приглушенная мелодия, и сразу беспокойно, чудно взлетели фортепьянные звуки и устремились ввысь, в поднебесье. И напряжение нарастало, это уже был оркестровый поток, и поверх него, едва касаясь, с легкостью и стремительностью полевых кузнечиков прыгали-летели звуки. Какая сила утверждения! И лилось беспокойство, нежность, целеустремленность. И тайна сущего, и что-то еще: простор земли, человек и небо над ним — и любовь! А дальше — изломанность, неуверенность, тревоги, сомнения и что-то очень трагическое, печальное, то, что связано со смертью. И вновь преодоление, надежда, порыв, улыбка. И уже просто жизнь, человеческая жизнь, полет, мечтательный полет. И вот тут — глубина всего сущего, беспредельность земли и неба, жизнеутверждение, стремительность, легкая стремительность фортепьянных «кузнечиков». Нет, нет и нет ничего проникновеннее музыки!
Прослушав первую часть концерта, Ветлугин встал, прошелся по гостиной. Он чувствовал, как сквозь него промчался очистительный ветер. И в душе, и в сердце утвердились еще большая решимость, еще большая убежденность в необходимости и правильности его поступков.
II
Особняк Стивенсов стоял на развилке: улица Голд-херст-роуд упиралась в него и разветвлялась на Абер-гарденс и Дэйр-террэс. Это был большой двухэтажный дом белого цвета. В углу палисадника росла старая акация, закрывшая своей зеленью треть дома. Два фронтальных окна в гостиной, задернутые шторами, были огромными, от пола. Перед ними лепились аляповатые балкончики. Одно из окон было приоткрыто, и солнце, пронизывающее гостиную сбоку, высвечивало кресло, низкий столик, винтовую лестницу. Ветлугин увидел, как солнечную полосу пересек Хью Стивенс. «Надо идти», — решил он.
Ветлугин, конечно, волновался, как волнуются перед ответственным экзаменом. Но внешне он выглядел спокойным, более того — любопытствующе-небрежным. Он не спеша открыл железную калитку, не спеша оглядел дом, задержав внимание на окнах. Он чувствовал, что его заметили, и остановился, чтобы его лучше рассмотрели, достал блокнот, вроде бы проверяя адрес, и только после этого взошел на крыльцо и нажал кнопку звонка. Ему долго не открывали, но вот наконец вышел мистер Стивенс. Он не скрывал недоумения.
— Мистер Стивенс? — вопросительно спросил Ветлугин, внимательно, с легкой иронией смотря ему в глаза.
Этот изучающий взгляд озадачил Стивенса.
— Да, это я, — холодно ответил Стивенс.
— Добрый день, мистер Стивенс. Я Ветлугин. Виктор Ветлугин, советский журналист.
— Неужели? — удивился Стивенс. Он не сумел скрыть беспокойства.
— Я пришел к вам и вашей жене Антонине Намёткиной, — ее имя и фамилию Ветлугин произнес по-русски медленно и четко, — для разговора о художнике Купрееве.
— Что вы хотите знать? — спросил Стивенс, и голос его дрогнул.
— Вы не хотели бы меня впустить в дом? — с вызовом поинтересовался Ветлугин. Намекнуть англичанину на невежливость, а тем более «бросить вызов», — это значит быть почти уверенным, что вызов будет принят.
Но Хью Стивенс был растерян. Разглядывая Ветлугина из окна, он даже не заподозрил, что это «советский».
— Простите, но мы вас не приглашали, — холодно сказал он.
— Я тоже не думал, что судьба сведет меня с вами, — не менее холодно ответил Ветлугин.
— Хорошо, проходите, — уже с высокомерием произнес Стивенс.
Гостиная была огромная, высокая, уставленная старинной мебелью викторианского стиля. По стенам висели картины, тоже старинные, в тяжелых позолоченных рамах. И только повернувшись, Ветлугин увидел портрет Вари. Его повесили временно, у самой двери.
Варенька поразила Ветлугина. Столько в ней было солнечной радости, доброты, любви. Ветлугин подошел ближе — поразительный портрет! И так нелепо-странно было ее присутствие здесь. Казалось, она сама удивляется и тревожится: попала-то сюда случайно, а вот — в заточении.
«Как это могло случиться, как?!» — подумал Ветлугин. Все ей здесь чуждо. И будто она смотрит на него с легкой укоризной и светлой надеждой. Будто верит, что он совершит добро, что он явился, чтобы спасти ее, вырвать из заточения. И столько в ее глазах спокойной уверенности в том, что не может, не должно восторжествовать зло.
— Садитесь, — услышал Ветлугин жесткое приглашение. Стивенс указывал ему на кресло. — Тонья, где ты? Тут пришел советский журналист! — крикнул он.
Сначала на винтовой лестнице показалась длинная юбка, заметающая скрип ступеней, а затем в просветах ее цветастая кофточка, ее длинные черные волосы.
Она смотрела на Ветлугина враждебно и презрительно, и видно было, что едва скрывает негодование. Конечно, она слышала их разговор.
— А откуда это известно, что он журналист? — Она осталась в отдалении, облокотившись на инкрустированный секретер.
Ветлугин молча достал бумажник, вытащил журналистскую карточку с фотографией и показал Стивенсу. Тому было неприятно: это не в английских манерах. Он мельком взглянул и торопливым движением руки отстранил удостоверение.
Но «Тонья» держалась агрессивно.
— Дайте, — сказала она, направляясь к Ветлугину.
— Не обязательно, — ответил он твердо и положил удостоверение в бумажник.
— А, видно, не с добром явился?
— А разве к добрым людям?
— Отчего же так? — Она обратилась к мужу: — Зачем ты его впустил? Я же тебе говорила, что они явятся.
— Успокойся, Тонья. Он может подумать, что мы боимся.
— Я знаю, что вам есть чего бояться, — вставил Ветлугин.
— Это чего же? — взвилась Антонина. Ветлугин молчал, тяжело и мрачно смотрел на нее. — Вы что, пришли нас запугивать? Не выйдет, товарищ! — кипела она. К Ветлугину она обращалась только по-русски. — Здесь вам не Советский Союз!
— Тонья! — укоризненно произнес Стивенс.
— А почему вы действительно меня боитесь? — спросил Ветлугин.
— Мы вас не боимся, — поспешно сказал Хью Стивенс.
— Мы вас презираем, — зло добавила Антонина.
«Нет, не буду я с ней вступать в перепалку, — решил Ветлугин. — Я пришел не ругаться, а обвинять! А ведь боятся, да как боятся! Вернее, она боится! Значит, я прав! Значит, так и было!»
— Я могу объяснить цель своего прихода?
— Пожалуйста, — холодно предложил Стивенс.
— Вы являетесь обладателями большинства картин Купреева, — спокойно начал Ветлугин. — Я думаю, лучших его картин. Не правда ли, странно, что вы оказались собственниками, можно сказать, всего творчества художника? Как это могло случиться?
Ветлугин сделал паузу и задумчиво посмотрел на Хью Стивенса. Тот потупился.
— Зачем вы явились, Ветлугин? — крикнула Антонина. Продолжала с сарказмом: — Может быть, потребовать возврата картин на горячо любимую Родину? Они же после смерти Купреева принадлежат народу, вашему народному государству. Не удастся! — Самоуверенно добавила: — Безнадежна ваша миссия, Ветлугин.
— Моя миссия не безнадежна, — твердо сказал Ветлугин. — Если бы она была безнадежна, я бы к вам не пришел. Мы располагаем данными, что вы завладели картинами преступным образом.