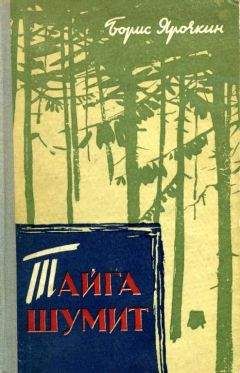— Все это правильно, — улыбнулся Бакрадзе. — Но поймите, что горят в этих кострах сотни миллионов рублей, даже если хотите — миллиарды!
— А Васо Лаврентьевич прав, — задумчиво сказал Павел, вспоминая то, что слышал в институте. — Да, порубочные остатки оставлять нельзя, но, и сжигая их мы уничтожаем громадные богатства. А все потому, что не дошли еще руки…
Павел оторвал взгляд от костра.
— Знаете, Александр Родионович, — продолжал он, — современная техника с помощью химии может производить из дерева около двадцати тысяч предметов, а у нас пока вырабатывают не более двухсот?
Столетников удивленно вскинул брови.
— Мы сжигаем отходы. Да не только мы, — возмущался Павел, — все леспромхозы, и это с тех пор, как существуют лесоразработки! А ведь из отходов можно получать разные спирты, канифоль, витамины, масла, скипидар, смолы, дрожжи, целлулоид, пластмассы, искусственный шелк, глюкозу, аспирин, формалин и сотни других предметов и продуктов…
— Но для этого нужны фабрики и заводы, — прервал его Александр, — а разве практически возможно строить их при леспромхозах?
— Строить, конечно, нет смысла, — ответил Павел в раздумье, — но можно найти выход. Вот хотя бы… сконструировать прессовочную машину и все порубочные остатки прессовать в брикеты. Разве нельзя? И это будет!..
— А почему бы не использовать отходы на топливо? — вставил Бакрадзе. — Если мне не изменяет память, смесь порубочных остатков по калорийности в два раза превосходит дрова!
— Совершенно верно, Васо Лаврентьевич, — подтвердил Павел и оживился. — Вот построим лесозавод и потушим в своем леспромхозе костры. Будем все порубочные остатки и отходы пиломатериалов использовать как топливо для электростанции. А я попробую заняться прессовочной машиной, возможно, что и выйдет.
Раздольный быстро шел по тротуару.
«Что же случилось?», — думал он тревожно.
У калитки дома остановился и, не поворачивая головы, косым взглядом посмотрел в оба конца улицы — не следят ли, но никого поблизости не было. Раздольный перевел дыхание и вошел во двор.
В комнате, не раздеваясь, сел у плиты.
Его знобило. Он поднял воротник полушубка и прислонился спиной к горячим кирпичам дымохода, но, несмотря на разливающуюся по спине теплоту, тело продолжало вздрагивать, лоб покрылся бисером пота, холодного и противного. Время от времени в подполье скребла мышь, а ему мерещились шаги во дворе, казалось, что кто-то топчется на крыльце и царапается в дверь, и тогда он подавался корпусом вперед и весь превращался в слух. Потом под окнами залилась в злобном лае собака…
«Идут!», — молнией блеснула мысль, и он с ужасом вскочил, — на цыпочках подбежал к окну, посмотрел из-за занавески на двор.
На раскидистой березе сидел кот и, сверкая злыми глазами, поглядывал на собаку.
— Фу-у, черт! — вытер лоб Раздольный и отошел от окна.
Он несколько минут бессмысленно смотрел в одну точку.
«Почему сняли?.. Плохо работал?.. А если причина другая? Если замполит нашел концы в путанице с крепежом и дровами?»
Теперь ему стало жарко. Он скинул полушубок и бросил его на кровать, немного спустя, расстегнул ворот рубахи и, запустив в карманы брюк длинные руки, принялся ходить по комнате.
«Как поправить положение? Уехать?.. Устроюсь на новом месте и буду работать…»
Он быстро подошел к столу, достал из ящика тетрадь, сел. Размашистым небрежным почерком написал заявление об увольнении, прочитал его и вздохнул. На душе по-прежнему висел камень. Он знал — это был плохой признак, предчувствия его никогда не обманывали.
Раздольный оделся, взял заявление, намереваясь сейчас же отнести его директору, но у двери остановился.
«Не торопись, обдумай, — предостерегал его внутренний голос, — отнести никогда не поздно».
Раздольный вернулся в комнату, остановился перед зеркалом. На него смотрело бледное, давно не бритое лицо, мутный взгляд беспокойно блуждал, скулы резче обозначились на исхудалых прыщеватых щеках.
— Гм, — усмехнулся он, — разбойник да и только!
Он вынул безопасную бритву, помазок, плеснул из чайника горячей воды. Намылив лицо, задумался.
«Если уволюсь и уеду в другое место, — прописываться опять надо — начнут копаться, искать, еще на кого-нибудь из старых знакомых наткнешься… Лучше сидеть на месте. Да и что тут такого, что понизили в должности? Заневского тоже понизили, а он ведь не уезжает!»
Раздольный с ожесточением срезал бритвой щетину бороды. Глухая злоба клокотала в его груди.
Побрившись, взял заявление и, прочитав еще раз, порвал, бросил клочки в печку. С минуту стоял и смотрел на горящую бумагу. Но настроение не улучшилось.
Он сдавил ладонями виски и долго тер глаза.
— «Когда же я перестану дрожать? Когда перестану бояться каждого людского взгляда? Когда смогу жить по-человечески?..»
Нет ответа. Злится и бушует за окном метель.
Дальняя взволнованно читает письмо Александра:
«Долговязый, такой, худой, — описывает он Раздольного. — Руки длинные, лицо тоже продолговатое, со впалыми щеками и в прыщах, а когда разговаривает, смотрит в сторону…
Не знаю, Надя, не ошибаюсь ли я, но в профиль Раздольный удивительно напоминает старшего полицейского Куприяненко, чьи фотографии доставил в 1943 году по нашему заданию в штаб калинковический фотограф».
Надежда задумывается, и в памяти ее всплывают одна за другой две памятные встречи…
…На пирушке становилось оживленнее.
Один из полицаев сбегал к старосте за самогоном, явился вскоре с четвертной бутылью, и все началось сначала.
Взволнованный и изрядно выпивший, Иван Куприяненко, искоса поглядывал на прислонившуюся к стене белокурую учительницу. Он давно засматривался на нее, еще задолго до войны оказывал Надежде всяческие знаки внимания, но она всего этого словно не замечала. Люди начинали посмеиваться над бесплодными ухаживаниями Куприяненко.
Как-то, незадолго до войны, в выходной день, Куприяненко прогуливался по лесу и встретил Дальнюю. Девушка собирала цветы. Она поздоровалась с ним и прошла мимо.
«Ишь, гордячка, — подумал он тогда, — не хочет и знаться». Они были далеко от людей, и Куприяненко решил идти напролом.
Подойдя к девушке, тронул ее за плечо. Надя выпрямилась, быстро вскинула на него зеленоватые, слегка удивленные глаза:
— Оставьте меня, Куприяненко, — спокойно, но твердо сказала она.
Спокойный тон молодой учительницы взбесил Куприяненко.
— Что, — шипя выдавил он, — поломаться захотелось?
Презрительно усмехнувшись, Надежда прошла несколько шагов и, присев на корточки, стала рвать ландыши, раздвигая листья. Куприяненко подскочил к ней, обхватил руками ее грудь, жадно потянулся к нежному, румяному лицу. Глухо вскрикнув, девушка рванулась и, выпрямившись, отскочила на несколько шагов.
— Надя, что случилось? — послышался голос, и Куприяненко увидел выходящую из-за кустов вторую учительницу.
«Черт тебя принес», — разозлился он и, круто повернувшись, скрылся в зарослях ольхи.
С приходом немцев Куприяненко воспрянул духом.
Свое вступление на должность старшего полицейского он ознаменовал тем, что на следующий день были арестованы девять коммунистов и комсомольцев, пятеро из них — повешены. Казнью руководил Куприяненко.
Однажды, по заданию немецкого командования, он с девятью полицейскими выехал на машине в одну из деревень, для реквизиции скота у населения. Вылезая из кабины, увидел Дальнюю, злобно ухмыльнулся. Вечером, окончив отбор скота, Куприяненко со своими подчиненными направился в дом к местному полицаю и велел привести туда Дальнюю. И вот она стоит перед ним.
— Ну, Надежда Алексеевна, что стреляешь глазами? Пошли!
Надя побледнела. Полчаса назад, увидев пришедших за ней полицаев, она подумала, что ее раскрыли, как связную партизан, но, узнав Куприяненко, все поняла.
Сжав челюсти, Дальняя тяжело дышала.
«Скорее, скорее же! — мысленно торопила она хозяйского паренька, посланного ею с донесением к партизанам. — Неужели не успеют?.. Нет-нет, не может быть… успеют, выручат!..»
— Ну, долго я буду ждать?
Надежда скользнула взглядом по ненавистному лицу, по висящей на боку кобуре парабеллума. Она прижалась плечом к русской печи, а пьяные красные рожи полицаев уставились на нее и, хохоча, подстрекали своего начальника.
— Эх ты-ы!
— Теленок, а не мужик!
— Что смотришь на нее? Тащи на кровать — или бабью натуру не знаешь?
— Дай-ка, мальчик, я покажу тебе, как надо ухаживать, — к Ивану Куприяненко шагнул широколицый рыжий полицейский.
— Убирайся прочь, а то в зубы получишь!