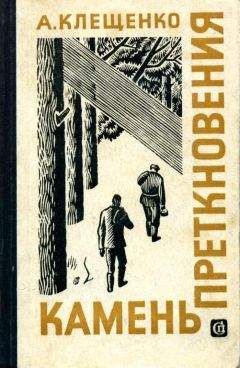Ганько снова пожал плечами.
— Чтобы понял, кто из нас больше заботился о Шугине. Ты — или мы, милиция. Слышал, как говорят: человек ты или милиционер? Так вот, милиционер докапывался, виноват парень или не виноват, хотя и объявил себя виноватым. А «человек», зная, что Шугин не виноват, умыл руки, лишь бы не называть настоящих виновников. Что молчишь?
— А вы ничего не спрашиваете…
— Я опрашивал. Ты не ответил… Иди!..
— До свиданья, — облегченно буркнул Ганько и, не оглядываясь, пошел из кабинета.
Проводив его взглядом, майор машинально похлопал себя по карманам, отыскивая папиросы. Вспомнив, что их нет, что папиросу, сладковатый вкус которой манил закурить следующую, он взял у этого парня, вздохнул.
Опять постучали, дверь приоткрылась.
— Минуточку, — кивнул майор женской голове, закутанной в платок. Когда голова скрылась, прошелся по кабинету и снял телефонную трубку.
— Леспромхоз мне, директора, — попросил он телефонистку. — Михаил Захарович? Субботин беспокоит. Слушай, я насчет заявления этого типа… Ну, что рассчитался с Лужнинского участка… Ну да… Вот именно, что не хулиган… Видимо, славный парень… Не буду привлекать… Да потому, что сам с удовольствием набил бы ему морду, твоему баянисту. А вот так… Нет, перезвони лучше, у меня посетители… Попозже…
Он повесил трубку. Крикнул:
— Кто там ко мне? Входите..
До Сашкова Ганько добрался только в восьмом часу. Выпрыгнув из кузова чуть притормозившей машины, посмотрел вслед ей и увидел, что шофер включил фары. Кажется, начинало смеркаться?
— Черт! — вслух произнес Ганько. Это означало, что время позднее, до дома тринадцать километров пешей дороги, в город можно было не ездить, и вообще все как-то чертовски нескладно получается.
Закурив, пошагал к развилке, которой начиналась дорога на Чарынь. Кое-где торопились зажечь огни, хотя на улице было еще достаточно светло. Свернув с главной улицы, мельком взглянул на прижавшийся к палисаднику чьего-то дома ГАЗ-69. Подумал: увез бы до Чарыни, чем стоять без дела. Вспомнив, что в Чарынь не пробиться и вездеходу-«козлу», презрительно швырнул в его сторону окурок.
Скользкая дорога спустилась к реке. Поверх темного льда натаявшую за день воду подергивал тонкий, как пергамент, ледок. На подъеме противоположного берега Василий дважды поскользнулся и, сойдя с дороги, хватаясь за ветки кустов, полез щетинящимся прошлогодней травой бесснежным косогором. Подняв голову над верхним его обрезом, заметил идущих по дороге людей. Но только сделав несколько шагов навстречу, узнал Ангуразова и Воронкина.
Решил: почуяли беду, удирают!
Он удивился своей злости, а затем увидел за их спинами еще двоих. Милиционера и штатского.
Злость сразу пропала. Вместо нее сердце сжала тоска, словно это его самого конвоировали. Василий молча отступил за обочину.
Поравнявшись с ним, Воронкин деланно усмехнулся. Ангуразов посмотрел равнодушно, отвел взгляд. Так полагалось: нельзя показывать, что знаком с человеком, навлекать на него подозрение…
Четверо скрылись под берегом. И тогда Ганько понял, что его тоже вели под конвоем. Васька́ Хохла, карманника. А Василий Ганько, лесоруб, смотрел вслед, навсегда с ним прощаясь. А прощаться всегда невесело!
В левой половине барака освободились три койки. Но не просторнее стало от того, а пустыннее.
— Я думал сначала, ты насчет этого дела подался, — глазами показал Стуколкин в угол, где спали Воронкин и Ангуразов. — Витька́ выручать…
— Точно — туда и ездил, — сказал Ганько и приготовился услышать позорное слово «легавый». Но Стуколкин только усмехнулся:
— Свисти больше! Они по утрянке уже сюда выехали, до Сашкова восемьдесят три, да тут тринадцать!
— На полдороге навстречу попались. Шофер кричит: автоинспектор едет… А я внатуре у начальника милиции был, Никола…
Стуколкин не опросил зачем. Не обозвал легавым. Поинтересовался только:
— Ну, и что Витёк?
— Не знаю…
— Выходит, сдал-таки он Шебутного?
— Похоже, что сами они раскопали. Толковал мне начальник: окно в тамбур выстеклили и… расписались… — Василий показал растопыренную пятерню.
— Не такой дурак Шебутной, — усомнился Стуколкин.
— Они после замок на тамбуре сбили, чтобы от окна отвести. Да, понимаешь, дверь поленом заклинило. Ну, оперативники и догадались, в чем дело…
— Черт с ними, — сказал Стуколкин. — Закир зря с Шебутным связался. Нашел кореша!.. Когда Костя сказал Витьку́, что есть водка, я сразу понял про магазин…
Оба примолкли, время от времени поглядывая исподтишка друг на друга. Каждый понимал, что развалился карточный домик, картам незачем больше притворяться колодой. Каждый порывался сказать: у меня своя дорога, прощай! И ни один не хотел первым сказать об этом. Как-то неловко признаваться на теплом еще пепелище, что желал пожара.
— Куда думаешь теперь? — спросил наконец Стуколкин.
— Никуда. Здесь останусь, Никола. В Сашково потом переберусь.
— Тоже дело. А на сплав?
— Посмотрю. Может, в совхозе найду работу… Я ведь на электромонтера немного учился…
— Не потянет? — значительно поднял брови Стуколкин, чуть-чуть усмехаясь.
— Жена не пустит, Никола! Все!.. — заулыбался Ганько. Не так, как Стуколкин, а радостно, откровенно, во весь рот — по-мальчишески.
Стуколкину от его радости стало грустно:
— Моя, наверное, забыла уже… Второй срок схватил — писать перестала. Ничтяк! Найду место, чтобы приткнуться.
Больше говорить было не о чем. И тот и другой думали о своем, сокровенном. Оба знали, что не придется встретиться больше, но скорбеть об этом не собирались.
— Подаваться-то когда будешь? — после паузы спросил Ганько. — Может, подравняешь полмесяца здесь?
Стуколкин взглянул на пустые койки, на тряпье и рваные валенки под ними.
— Ну его к чертям, Васек. Хватит. Дорубит кто-нибудь мой лес, немного остается рубить.
— Твое дело. Я тогда к Ваське Скрыгину в бригаду пойду…
— Вроде ничего фрайер, — одобрил Стуколкин и опять покосился на пустые койки. — Айда, сходим к ним, что ли? Надо с мужиками разойтись как положено…
Ганько молча поднялся. На ходу закуривая, пошел к двери.
На правой половине уже укладывались спать, но только один Коньков пробурчал что-то о несвоевременности прихода соседей. Скрыгин, приветствуя, закивал головой и замычал, показывая вынутую изо рта зубную щетку. Сухоручков, раздумав снимать рубашку, пересел с кровати к столу.
— Осиротели, ребята? — соболезнующе спросил он.
— У нас усачевская койка освободилась, еще одну можно поставить. Вон там, где чижиковская стояла, — предложил Тылзин, показывая снятым ботинком место. — В колхозе веселей будет!
— Я-то завтра отчаливать думаю, — сказал Стуколкин.
— И ты в отлет? — поинтересовался Иван Яковлевич у Ганько.
Тот отрицательно замотал головой.
— К тезке в бригаду, если возьмет…
— Чего ж не взять? Возьмет! — решил за Скрыгина Сухоручков, а Тылзин поддержал:
— Рад будет, недокомплект у него в бригаде.
Скрыгин, выполоскав рот, стряхнул воду со щетки. Подошел, улыбаясь. Сухоручков пожал плечами:
— И чего ты деньги на пасту тратишь, Васька? Твои зубы вполне наждаком чистить можно. Шкуркой. Дешево и сердито.
— Разговор наш слышал? — спросил Скрыгина Тылзин.
— А то нет?.. Вот кого, Иван Яковлевич, бригадиром-то к нам надо! Тезку! Он у нас всех по опытности переплюнет. Сам понимаешь!
— Брось ты, полмесяца каких-то, а то и меньше, работать осталось. Не все равно, кто бригадирствовать будет? — накинулся на Скрыгина Сухоручков. — Ты лучше расскажи парню о деле. Насчет того, что надумали. Вчетвером сподручнее, чем втроем…
Скрыгин, нерешительно посмотрев на Ганько, видимо, колебался принять какое-то решение:
— Втроем управились бы…
— Не двужильный я, чтобы дарма спину ломать! — выкрикнул молчавший до того Коньков и заворочался, заскрипев койкой.
— Помолчал бы ты, Никанор, — не глядя в его сторону, поморщился Тылзин. — Не хочешь — не надо…
— О чем спор, дядя Ваня? — насторожился Ганько.
Иван Яковлевич устало махнул рукой.
— Нет никакого спора. Мастер наш просчитался на полсотни кубометров. Глаза у него, знаешь, какие? А замер — дело кляузное, два сантиметра на шестиметровом бревне припустил — сотка. Вот и набежало.
— На сплаве спишут, — усмехнулся Стуколкин. — Не такое списывают. Это что? Пустяк!..
— Нам пустяк, а Ионыч мужик с характером. Акт о недосдаче составил. Говорит: пусть снимают.
— Кто его за это снимать станет?
— В начет могут поставить, — сказал Тылзин. — Не в том дело. Со внучкой неприятность такая… Вроде как не в себе стал старик…