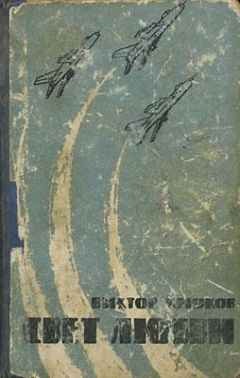Евгений не ответил.
— Пойдем купаться... Ты, наверно, хорошо плаваешь!
— Потом, Федя. Расскажи-ка мне, как ты живешь, с кем водишься... — Евгений за руки потянул мальчика к себе.
— Мирово живу! У нас ведь хорошо тут. И поле рядом — в футбол играть. И речка совсем близко. Разбежался вот по этой тропинке (Федя ткнул босой ногой в некошеную луговину) и — бултых в воду! Плохо только, что дом на огород окнами. Не успеешь раздеться, как мамка кричит: «Федюшка, ты опять купаться, сорванец этакий». Вообще-то я теперь в своем огороде не купаюсь. Уходим с ребятами куда-нибудь с глаз подальше. Ты только не говори. Ладно?
— Не скажу, не скажу, не бойся, — улыбнулся Евгений, Его умиляла и радовала детская логика брата. — Ты что-нибудь об отце расскажи...
— А что рассказывать? — Федя сел и стал пощипывать траву тоненькими пальцами. — Я его не люблю...
— Почему?
— Потому, что он сам мальчишек не любит. Мы как-то с ребятами пошли в баню, где папа теперь работает, и сели в парикмахерской очереди дожидать. Я боялся, чтобы папа меня не увидел. Ведь раздевалка-то напротив парикмахерской. А пришли мальчишки из РУ{7}. Так папа им беленьких номерков не дал, а свалил шинели в кучу и сказал: после бани сами разберетесь. Большие дяденьки подходили к папе разные. Если пальто хорошее, папа помогал им раздеваться и отряхивал пальто щеткой. Потом папа подставлял руку. Как будто нищий! А если пальто было старое, он и не помогал и щетку не брал. А что меня совсем обидело — так это когда дедушка пришел с веником. Он был в дырявом плаще. Папа так потянул плащ на свою сторону перегородки, что пуговицы отлетели и по полу покатились. А дедушка-то видел плохо. Искал он, искал и не нашел. Я хотел поискать, да побоялся. А папа говорит: «Ничего, отец, старуха новые пришьет...» С тех пор я его и не люблю: неужели он не мог найти пуговицы? Дедушка-то был старенький-престаренький...
Федя сказал брату, что недавно между печкой и стеной обнаружил целую мешульку медных денег.
— Неси мешульку сюда, — встал Евгений.
— Что ты... Я тебе как родному сказал... Если папка узнает, он убьет меня, — побледнел Федя.
— Не убьет. Я не дам! Неси скорее, — скомандовал бывший старшина.
Через минуту, горбясь от тяжести, Федя приволок лошадиную торбу с медной разменной монетой. Евгений запустил в нее руки, и желтые пятачки и двушки посыпались между его пальцев. Властное, твердое лицо Громова искривилось. За всю долгую службу ему ни разу не доводилось бывать дома, и теперь он впервые смотрел на отца взрослыми, кое-что видевшими глазами. Механически вороша пальцами монеты, он думал: «И этот мешочник, вымогающий чаевые, писал мне каждый месяц: торопись, сынок, жми в офицеры!» И я слушал его как последнюю инстанцию! И из-за этого чуть не оказался за бортом! Каким почетом-то я пользовался: маршалу Чойбалсану поручали докладывать, главе государства!»
Обитый гвоздями забор, чаевые, уговоры не жениться на Надежде, наставления Федюшке — все вызывало гнев. В душе Громова назревала буря. Он вдруг запустил руку в торбу и, взяв горсть монет, швырнул их в ручей.
Когда пришел отец, Евгений, скрывая усмешку, подошел к нему с торбой, как член военного трибунала с вещественным доказательством.
— Тебя судить надо! Срываешь государству денежный оборот! — И будто из вулкана, из него вылились горькие и обидные упреки.
Отец стоял, широко расставив ноги, смотрел на сына, будто не узнавая его. Изредка перебивал:
— Ишь как тебя в армии-то вышколили... Невелик в чинах-то, чтобы отцу нотации читать,
Его реплики были колкие, злые, перевертывающие сыну все нутро. Бросив торбу под ноги отцу, Громов схватил у яблони кол-подпорку и вскочил на перекладину забора. Точными, размеренными ударами он стал загибать гвозди и сшибать острые стекла в свой огород.
— Чудище! Соседи ведь, наверно, смеются! Скоро пальцем будут на тебя показывать... Не твоими руками сделано, не твоими разорять!
Но Евгений не слушал, а делал свое дело, медленно двигаясь по забору к ручью. А отец, как на похоронах, медленно шел за ним, осторожно ставя на дорожку свои длинные ступни. Евгений спрыгнул, взял из-под сливы ржавый секатор и в чем был — в галифе и хромовых сапогах — вошел в ручей. Ему было по грудь. Он стал перерезать проволоку. Отец стоял на берегу, кричал, качал головой, но вдруг будто что-то в нем внезапно сломалось: обессиленно сел на капустные листья. Из-под ног его покатились в ручей комья земли, и вода у берега замутилась. Длинные руки его, как плети, повисли между борозд, он заплакал глухо и безнадежно, как плачут слабые старики.
— Сынок, — всхлипнул он, — что ты делаешь, что ты делаешь!.. Может, для меня и отрада вся в этом. Выйду утром на бережок, и кажется: у своего-то огорода и водичка чище...
В его словах не было ни протеста, ни возмущения, только боль и тоска. Годы делали свое дело: постарел и обессилел Иван Матвеевич, единоличник деревни Матюково, переехавший в город, чтобы не вступать в колхоз.
Утром, проводив Наташеньку к соседке, Лена лениво пошла в столовую. Делать там было нечего: курсанты уже не питались в лагере, да и механиков стало меньше. По накладным Лена знала заранее, сколько человек будут обедать и ужинать. Людское оживление, работа отвлекали Беленькую от раздумий, и теперь, когда дел убавилось, ей стало тяжелее. Сегодня, узнав, что летчики и механики не будут стоять здесь на довольствии, она ужаснулась. И, не веря накладной, пошла на пригорок, чтобы взглянуть на стоянку. Если машины здесь, значит, вскоре вернутся механики и этот молчаливый, вечно что-нибудь делающий Николай Князев. Но стоянка была пуста... И что-то засосало под ложечкой. Не веря глазам своим, Лена двинулась к стоянке: ни часовых, ни дежурных, ни машин. Она подошла к тому месту, где прежде стоял самолет, на котором ее муж был командиром экипажа.
Еще совсем недавно на буром фоне стоянки выделялся зеленый силуэт самолета: крылья, фюзеляж и хвостовое оперение предохраняли траву от солнечных лучей, под самолетом она была зеленее. Только у стеллажей, на которых виднелись резкие отпечатки шин, трава была совершенно выбита. Часто приходя сюда, Лена падала на траву, орошая ее слезами. В голове стучало: «Силуэт, остался только силуэт». Сегодня она не увидела и силуэта. Трава, росшая в тени самолета, пожелтела, поблекла, выбилась, и нет уже никаких признаков, что здесь стоял Его истребитель. Лена упала на землю и заплакала.
Каждый день, когда гремела вдали стоянка, ей казалось, что где-то там, в туче старта, как в пороховом дыму, и ее муж, ее любовь. Она так часто думала о нем, живом, что и теперь, после его смерти, он жил в ее воображении как живой человек, который по каким-то причинам не может вернуться к ней, не может взглянуть на дочь.
Но теперь, когда все, что окружало живого летчика — шум и рокот моторов, — смолкло и наступила гнетущая, жуткая тишина, его образ, живущий в ее воображении, тоже стал исчезать. Лена остро почувствовала прежнее сиротство, одиночество.
С летного поля дул ветер, над ним звенели жаворонки, сияло солнце, бездонный голубой шатер неба висел над ним. Вдали показался человек. Это был майор Строгов. Нахлестывая прутиком колючий татарник, он шел краем летной полосы из своего палаточного городка, сверкавшего на солнце десятками плексигласовых и целлулоидных оконцев. Он был в хорошем настроении: наконец-то аэродром освободился. Теперь техника и порядки будут новые...
Вдали, там, за строем собранных и испытанных в воздухе серебристых машин, темнели тракторы и тяжелые катки. Военные строители продолжали увеличивать взлетную полосу. Строгов чувствовал уже себя хозяином на аэродроме, где когда-то был курсантом и рядовым инструктором. Скоро этот аэродром станет плацдармом воздушной защиты большого города... Он хорошо воевал, к нему вливается опытный технический состав. «Технари» быстро переучатся и обеспечат боевую готовность машин.
Строгов расстегнул ворот шелкового, без подкладки кителя и свернул к сараю (поскорее в тень), когда увидел лежавшую на краю аэродрома женщину в синем платье.
Он остановился, удивленно посматривая на нее с высоты своего богатырского роста. Ее плечи вздрагивали, но он не заметил этого и сказал с укором:
— Здесь, гражданочка, не загорают...
Лена встала, с лихорадочной быстротой стала искать носовой платок, спрятанный в рукаве.
— Ах... это вы... Извините... Что с вами? — участливо спросил майор. Он помнил ее. Он хорошо помнил ее красивое лицо и глубокую грусть в глазах. Это было совсем недавно, в душной палатке с закрытыми наглухо окнами и дверями. Дул сильный ветер, и все, кто испытывал истребители и кто обслуживал полеты, обедали на старте в этой палатке. И она, эта красивая, но замкнутая официантка, была так невнимательна к нему, командиру полка: вместо «летного» обеда подала обед «технический», без яиц, без шоколада. Но она понравилась ему, и потому он съел обед, не высказав упрека. Когда же узнал, что у нее недавно погиб муж, он понял, почему она была так рассеянна.