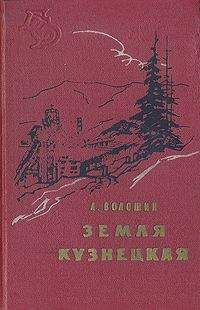— Оставь ты, пожалуйста! — отмахнулся Рогов. — Весна на дворе — соловьи в сердце, вот и худею, вот тебе и зелень в глазах. Не отвлекайся, что еще у тебя?
— Вот и все, пожалуй. Если за пятидневку заменим крепь в седьмом сбоечном и пустим по нему аккумуляторный электровоз, то макаровский комбайн выгоднее ставить в двадцать седьмую лаву.
— Значит, двенадцатую, черепановскую, не сможем подключить к этому механизированному потоку?
— Подключить можно, только она же…
— С ручной навалкой? — нетерпеливо спросил Рогов. — Хорошо, сделаем как говоришь, а комсомольцы подождут хомяковскую машину.
— Конечно, подождут, — подтвердил Дубинцев. — И даже не заметят со своим новым графиком. Я уже докладывал вам…
— Да, да, я разбирался. — Рогов на минуту задумался, — С этим графиком много пока нерешенного, но много также удивительно дельных мыслей. Ты пока не пробовал Черепанова отговаривать?
— Пробовал, сказал, что подумать как следует надо… — Николай смущенно потупился.
— Ну?
— Как ерш, с хвоста до головы ощетинился, пообещал даже вместе с Даниловым пойти к Бондарчуку.
— И уже были, были! — весело подтвердил Рогов. — Нажаловались! Ах, хорошо, черт возьми!
Лицо у Николая вытянулось.
— Что ж тут хорошего? — недовольно заметил он. — Не миновать мне трепки от Виктора Петровича.
— Трепки!.. — Рогов рассмеялся. — Ты слушай, какую мысль подает парторг. Черепанов составил свой односменный рабочий график для стосорокаметровой лавы; ему советуют еще раз все пересмотреть, пересчитать, чтобы не было ни одного белого пятна, а он настаивает на немедленной реализации своего плана, говорит, что уже советовался-пересоветовался и со своим опытом и со своим сердцем. Что ж можно возразить против таких советчиков? Сделаем тогда так: через недельку соберем всех командиров шахты, и пусть бригадир выступит перед ними не как-нибудь, а с лекцией о своем графике, пусть трезво и с жаром докажет его преимущество. А? — Открытое скуластое лицо Рогова стало юношески простоватым, ласковым, когда он вполголоса переспросил: — Понимаешь, Коля, что это значит: забойщик делает доклад инженерам?..
Аннушка только что прибрала в комнате и, приподняв занавеску, засмотрелась на улицу с ее звонкой апрельской капелью. На звук приоткрываемой двери обернулась.
У порога стояла высокая дородная женщина с чемоданчиком, стояла и тихо, загадочно улыбалась. Аннушка растерялась от неожиданности. Хотела спросить: «Вы ко мне?» Но доброе полное лицо женщины показалось таким знакомым и даже родным. Хотела сказать: «Здравствуйте», но и этого не сказала. Выручила сама незнакомая гостья.
Кивнув слегка головой, она молча разделась, повесила пальто, откинула на плечи пуховую шаль и, присев на низенький сундучок у стенки, попросила:
— Кажись-ка мне, доченька!
Аннушка немного замешкалась, может быть оттого, что, сразу угадав в гостье свекровь, не придумала еще, как и для чего нужно показываться. Но свекровь не стала ждать, а запросто, бесцеремонно притянула ее к себе за руки, заглянула в глаза, искренне удивилась:
— Чего ж ты такая крохотная, шахтерова жена? — И наконец, с удовольствием чмокнув невестку в обе щеки и в губы, спросила; — Колька не обижает?
Через полчаса они были уже дружны. Зинаида Ивановна распаковала гостинцы, пересмотрела небольшую библиотечку в угловом шкафу и осталась недовольна — книг мало, подобраны случайно, что же читают эти два ребенка и читают ли вообще? В этом придется как следует разобраться. Зато незамысловатая электрокухня была найдена почти в полном порядке. В общем, с первой же минуты знакомства со свекровью Аннушка попала под ее высокое руководство.
Вернувшись домой после разговора с Роговым, Николай еще в коридоре услышал смех и звонкое восклицание жены:
— Мама! Это же не понравится Коленьке!
В комнате выглядело все особенно домовито, на плитке что-то шипело и побулькивало и пахло очень вкусно. В белом фартучке, розовая, возбужденная Аннушка приколачивала новый настенный коврик у кровати, Зинаида Ивановна только что передвинула поближе к окну письменный стол. И мать и жену заслонял от Николая золотистый столб солнечного света.
Оглянувшись на сына, Зинаида Ивановна всплеснула руками:
— Батюшки, вот шахтерище вымахал!
А уже за обедом мать с пристрастием допрашивала:
— Скажи-ка, дружок, почему по восемнадцать часов крутишься на шахте? Что это за отсебятина?
— Какая отсебятина?.. — Николай заметно смутился, Есть же государственный план…
— Который нужно выполнять? Ну и выполняй, как положено коммунисту, а ты словно торгаш в собственной лавочке: каждую копейку сам норовишь сунуть в кассу. Но ведь есть же у тебя на участке люди заботливые, советские, — тоже болеют за дело, думают о нем, зачем же им заглядывать под руку? Так ведь нет, такие начальники, как ты — из молодых да ранние, — мельтешат перед глазами, суются в каждую мелочь: «Ах, как бы чего не вышло!»
— За себя я восемь часов на шахте, — возразил сын, — могу и меньше. Но нужно же что-то делать и за тех, кто не успевает, — я не виноват, что не все одинаково трудятся…
— Золотой ты мой! — полное лицо Зинаиды Ивановны затряслось от сдержанного смеха. — Что это за теория: «за себя, да еще за других?» Кто тебя этому учит, кто тобой командует? Рогов?
Она долго и придирчиво выспрашивала; кто такой Рогов?
— Я рядом с ним научился мечтать! — выпалил неожиданно Николай.
— А он рядом с тобой чему научился? — строго спросила Зинаида Ивановна. — Скажу по-свойски: это меня тоже интересует. Не знаешь? Ну, тогда вот что: позови-ка его на чашку чая, скажи, что я хочу ему в глаза заглянуть.
— Занят он… — замялся Николай. — Такую махину на плечах держит.
— Не говори глупостей! — прикрикнула Зинаида Ивановна. — Вот еще богатыри подобрались — один чуть не за десятерых работает, другой целую шахту на плечах держит. Занят! А ты попробуй.
Николай назавтра же попробовал, пригласил.
— Часов в восемь вечера, говоришь? — только и переспросил Рогов, потом подумал, посмотрел в свой дневной план, вычеркнул что-то и ровно в восемь вечера пришел. И не один, а со Степаном Даниловым.
Степан же притащил свой фронтовой аккордеон, и получилось совсем хорошо.
Аннушка, наверное, никогда не забудет этот удивительный вечер. Легкий ночной морозец разрисовал серебряными перьями лунные квадраты оконных стекол; зеленовато светилась затемненная абажуром настольная лампа, в дальних углах затаились легкие тени. О г лунной ночи за окном, от тишины, изредка-нарушаемой голосами собеседников, почему-то казалось, что плывет маленькая комнатка в далекое далеко.
Аннушка думала, что мать будет выспрашивать Рогова, кто он да что он, а тот взъерошится — и найдет коса на камень. Но Зинаида Ивановна только глянула на его сильную подобранную фигуру, на открытое, немного утомленное лицо и, встав навстречу, сказала просто:
— Вот вы какой…
Степан Данилов только что вернулся из поездки в Сталинск, где долечивалась Тоня Липилина, и был весь какой-то летящий, песенный, говорил с хрипотцой, но когда запел под аккордеон, какой проникновенной силы, какой покоряющей теплоты оказался у него голос!
Случилось это просто, как будто песня только и ждала этого вечера, этого часа. Вначале выпили по стакану чая, потом поговорили о чем-то незначительном, и вдруг Рогов попросил:
— Спой, Степа!
И Данилов запел, приподняв лицо, легко прикасаясь пальцами к прохладным перламутровым клавишам инструмента:
Снега, как перья лебедей,
Покрыли все вокруг…
Но сразу на душе теплей,
Когда приходит друг.
Добро не в том,
Кто за столом
Дружить поклялся вдруг,
А друг в труде,
А друг в беде —
Мой настоящий друг.
Он улыбнется, и светлей
Мне станет среди вьюг,
Верней не знаю я людей,
Чем он, мой верный друг.
Не тот мне мил.
Кто с нами пил,
Назвался другом вдруг,
А друг в труде,
А друг в беде —
Мой настоящий друг.
Мы с ним за партой за одной
Сидели десять лет.
И нашей дружбы фронтовой
На свете крепче нет.
Не тот хорош.
Кто, словно грош,
Вкатился в братский круг,
А друг в труде,
А друг в беде —
Мой настоящий друг.
Теперь на новые дела
Нас дружба подняла,
Мы с другом — будто два крыла
Летящего орла…[1]
Степан умолк, чуть наклонив голову к плечу, словно прислушиваясь к улетающим звукам. Рогов повторил вполголоса, нараспев: