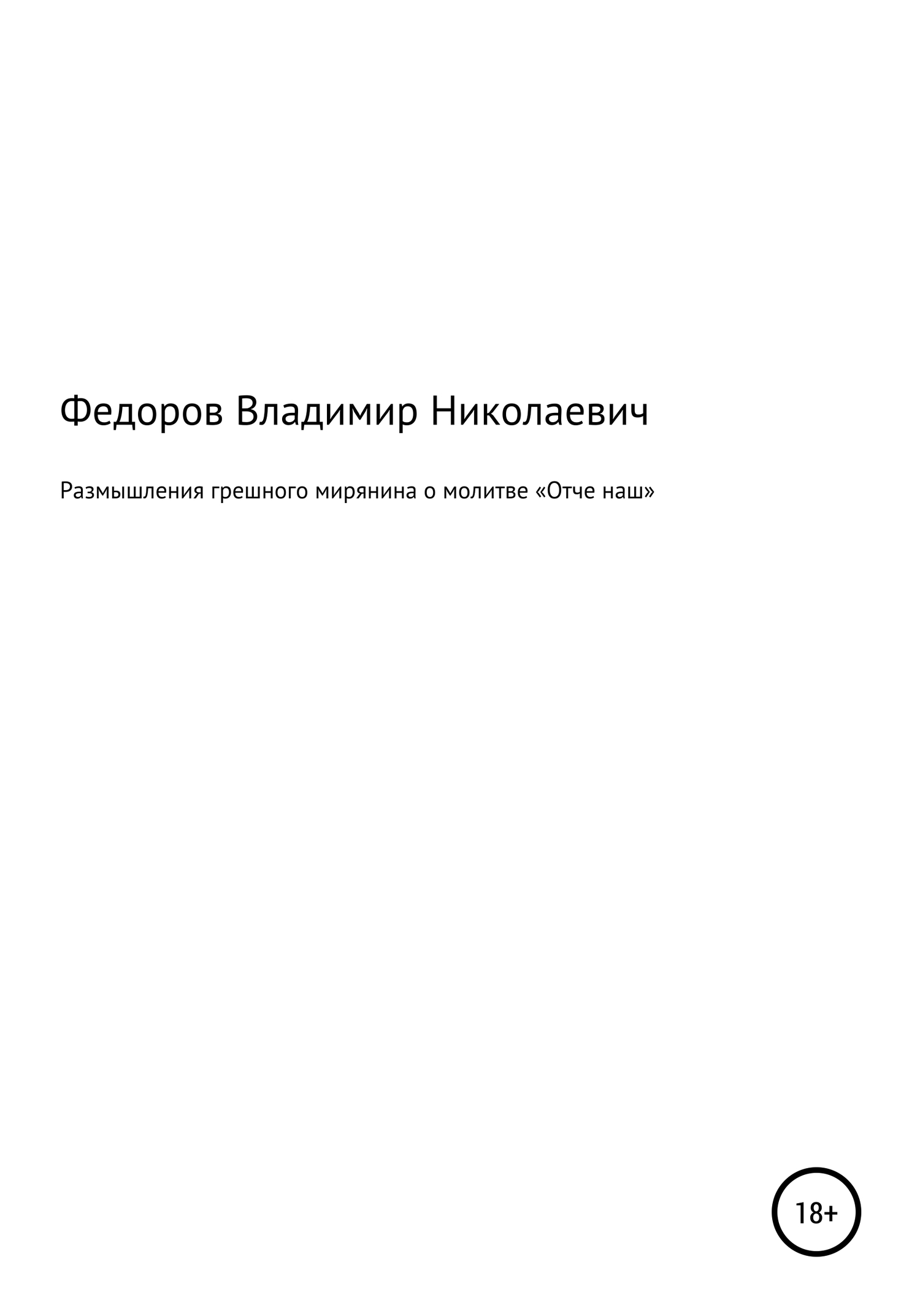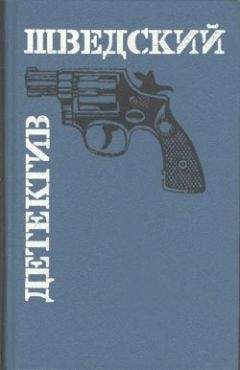Устинья Семеновна уже ловит категорическое требование Семена.
— …Только отдельно! Здесь вам — не жить…
«Стервец, — зло поглядывает мать на него. — Смутьянит Любкину душу, за собой тянет…»
Но так и не подходит к сыну: пришел начальник участка Суровцев с супругой, и Устинья Семеновна, уже узнавшая, что это начальник Андрея, суетится возле пришедших.
— Подвинься-ка, — бесцеремонно подталкивает она Семена. — Пусть рядом с молодыми сядут.
— Вот попомнишь, что я тебе говорил, — настаивает на своем Семен, не обращая внимания на стоявшую за его спиной мать. — Это у бога — дней много, а у человека — с гулькин нос. Что упустишь вовремя сделать — потом локоть будешь кусать, не наверстаешь…
— Хватит тебе, Семка, — машет рукой Любаша, глянув на помрачневшую мать. — Своя у нас голова на плечах, сами решим.
— Своя? Ну, пожалуйста, — обиженно отвечает Семен, отходя от молодых, и Любаша недовольно смотрит ему вслед.
— Уж на свадьбе-то не может без ссор, — шепчет она Андрею. — Всегда так: ляпнет что-нибудь, выведет маму из себя — та и ходит сама не своя…
«М-да, с Григорием их не сравнишь, — думает Андрей, с любопытством наблюдая за Семеном, который уже шумно смеется в компании, где сидит жена его, Настя. — Он, пожалуй, прав. Решать тут надо сразу».
А на том краю стола, где сидит Вера, снова взлетает задорная песня. У Веры несильный, но приятный голос, и даже старики умолкают на минуту, когда она проникновенно ведет:
…Пусть всегда будет солнце…
Песня эта только что появилась, в поселке многие ее не знают, и призывные, полные оптимизма слова заставляют многих за столом восторженно поднять голову — так созвучно с песней вдруг забились их сердца.
«Какая она молодец, Вера! — не сводит с девушки глаз Андрей. — Около нее никогда скучно не бывает…»
— О чем ты? — доносится тихий голос Любаши.
— Я о чем? Хороший человек Вера, правда? Без нее совсем не тот бы вечер был. И потом, понимаешь, не каждый решится на такой подарок, точно? Они ведь тоже с Вяхиревым не сегодня-завтра поженятся, разве им самим квартира не нужна?
— Да, да, конечно, — соглашается Любаша, опуская глаза.
— А ты не рада? — тихо говорит Андрей возле самого ее уха. — Мы там будем вдвоем, понимаешь? Ты и я!..
В жарком шепоте ничего фальшивого. Любаша слышит ласковый, нежный призыв к ней и, найдя руку Андрея, крепко сжимает в своей — так, чтобы никто не видел.
Нет, это еще не ее согласие пойти жить отдельно от матери. Это скорее выражение благодарности ему зато, что он так ее любит.
— Иди-ка, доченька, сказать тебе что-то надо, — резко звучит за спиной ласковый голос Устиньи Семеновны, и Любаша вздрагивает: она и забыла, что на свете существует еще один человек, которому ока многим обязана в жизни…
Таиться нечего, и Устинья Семеновна говорит, притворяя дверь спальной комнаты:
— Ну, все еще не решили с церковью-то? Вот что, тогда… С Григорием я уже обговорила, он согласен… Охмелеет как твой Андрюшка — выведи его на улицу, а там, вроде бы прогуляться, идите к церкви. И Гришка с нашими поселковыми пойдут с вами. Небось, все-то уломаете его. Пьяному-то легче втолмить. И лаской, лаской бери его — никуда не денется.
Любаша изумленно смотрит на мать. «Зачем?! Ведь это же — обман?!» Но язык словно прилипает во рту под настороженным взглядом Устиньи Семеновны.
— Не надо… — с болью советует Любаша.
— Это еще почему — не надо? — сводит брови мать. — Божеское благословение — не надо?!
Любаша, морщась, качает головой:
— Не то, мама… Против желания — зачем?
А сама вдруг с удивительной ясностью думает, что матери важно одно — любыми путями обвенчать их в церкви, и для этого она готова пойти даже на обман… Но кого же обманывать? Андрея? Нет, его слово твердо, назавтра он, если заманят его в церковь, с ненавистью будет смотреть на нее, Любашу, и разве сумеет она перед ним оправдаться? Обман этот — для себя, для матери, для поселковых, чтобы не шептались за спиной. А для господа бога… С чистой душой надо стоять перед господом, он же поймет, что и его обманывают, если приведут под благословение батюшки пьяного человека.
Любаша качает головой:
— Не надо, мама… Зачем — так?
— Ну, как знаешь! — шипит Устинья Семеновна. — Попомнишь меня, как горе начнешь мыкать!
Мать шагает к двери, настежь распахивает ее, и вот уже ее голос вплетается в десятки голосов гостей, обыденно радушный и спокойный.
А Любаша опускается на заправленную койку, падает лицом в подушку, стараясь совладать с обидно-бессильными слезами…
Григорий распахивает створки окна, подставляет разгоряченную от пляски голову под ток свежего ночного воздуха и мельком оглядывает темень палисадника. Свет из комнаты, где продолжается шумная пляска выпивших людей, вырывает из густой августовской тьмы неясные очертания скрытого кустами штакетника. Слегка покачиваются под ветерком черемухи, шевелятся остролистые акации, отражая зеленовато-желтые отблески электрического света. И вдруг Григорию мерещится, что там, за стеной этих плотно сплетенных зарослей акаций, стоит человек…
«Ванюшка соседский, наверно, — мельком думает Григорий. — Проворонил Любку, теперь подсматривает чужую свадьбу из-за кустов…»
Отрывисто доносится сквозь дроботный перестук пляски, крики и смех, лай Рекса, но гармошка тут же сминает все другие звуки частым переливом плясовой.
— Эх! — вскрикивает Григорий, вскинув руки, и идет от окна на середину комнаты с каблука на носок, притопывая и выделывая замысловатые хлопушки руками.
А во дворе заливается бешеным лаем Рекс.
Утро выдалось предосеннее — промозглое и серое. В стылой ранней тишине спит безжизненно замершая улица. От домов в этот дремотный час еще не слышатся даже легкие стуки и шумы пробуждения хозяек-рановставов, сердитые прикрикивания их на кур, свиней и коров. Все спит, но в этом застывшем безмолвии уже густо таится напряженное ожидание первых утренних звуков.
Для Устиньи Семеновны ночи как не было. Когда синевой брызнуло в окна и угомонился последний беспокойный гость, она забылась, прилегла, смежив веки, сморенная полудремотой, а кто-то уже шепнул, притронувшись к ней осторожной рукой: вставай, дел много, вот-вот проснутся хмельные гости, должно быть готово горяченькое на ранний стол.
Она встает, позевывая, слезает с голбца, привычно крестится на образа в углу, пробормотав «Отче наш», пробирается между похрапывающими на половиках поселковыми мужиками, так и не сумевшими найти ночью дорогу домой, выходит на крыльцо и окидывает проясневшим взглядом двор и часть улицы. Звякает цепью Рекс, вылезает из конуры, отряхиваясь. И зевает совсем по-человечьи — протяжно и сладко.
— Цыц! — привычно осекает собаку Устинья Семеновна, но зевок Рекса — словно сигнал для оживления звуков, мгновенно всколыхнувшихся в