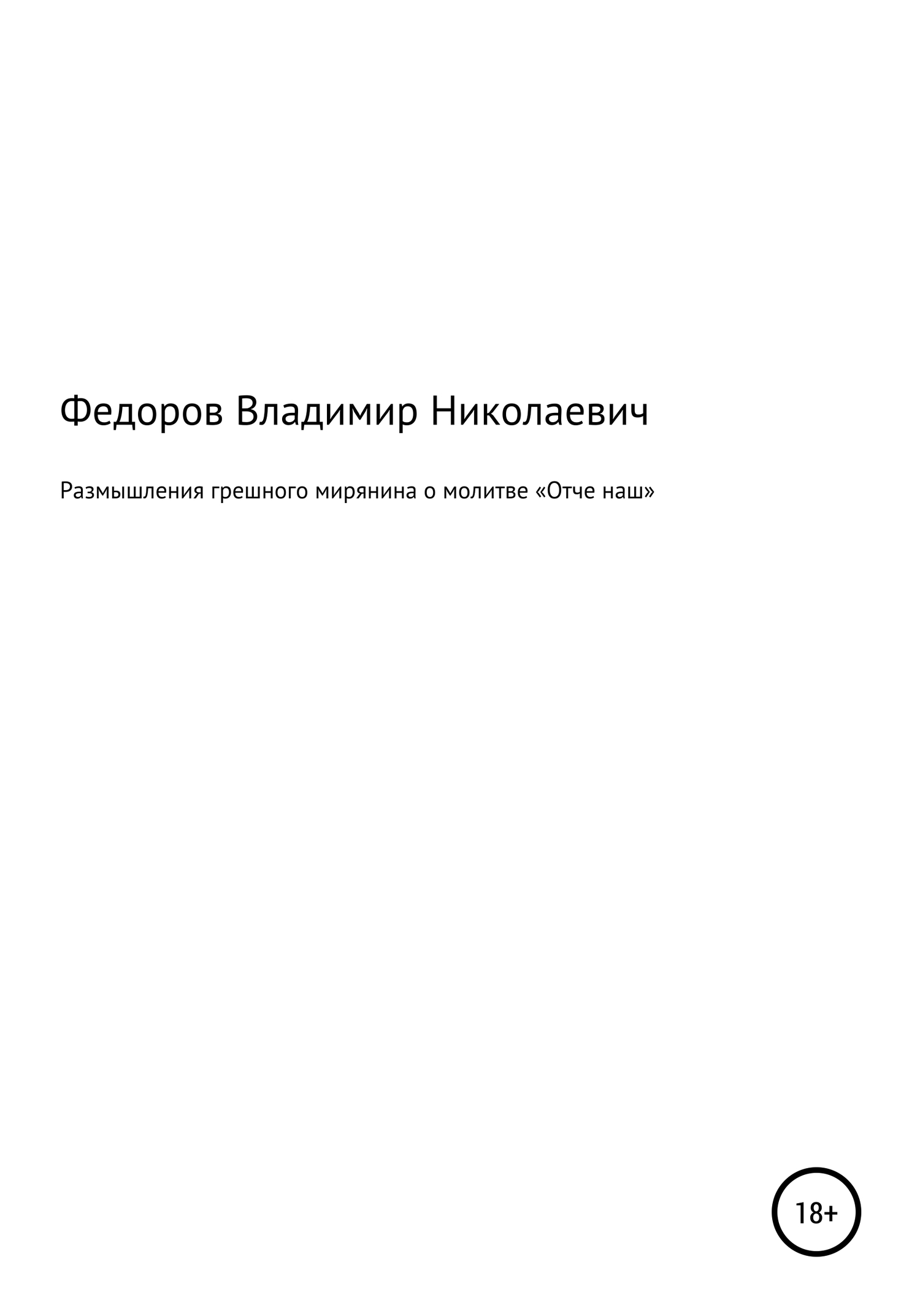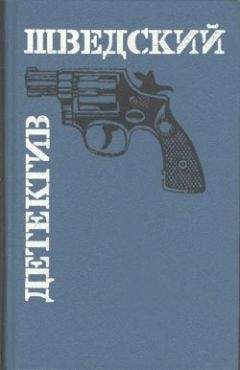отсырелом воздухе. Откуда-то сразу доносится собачий лай, где-то хлопает калитка, и едва уловимо, прерывистым комариным напевом плывут дальние-дальние людские голоса.
Жизнь просыпается.
Вот уже по улице мимо дома Пименовых идет кто-то. Устинья Семеновна, набиравшая в сарайке дрова, чутко улавливает оживленные женские восклицания. Ей кажется даже, что голоса, приблизившись к воротам, замирают на какие-то секунды там, словно ранних прохожих заинтересовало что-то необычное, и оно — у самых пименовских ворот.
Так и есть: голоса снова оживают с той стороны у ворот и удаляются.
«Чего это притянуло их? — с недобрым предчувствием думает Устинья Семеновна, шагая по двору. — Батюшки мои…» — замирает она, открыв калитку и с изумлением посматривая на темные полосы дегтя на сером, некрашеном тесе ворот.
Устинья Семеновна озирается, но улица пуста, видны лишь вдали те двое, что останавливались здесь. Захлопнув калитку, рысцой пробегает по двору на крыльцо и дальше — в прихожую, где среди мужиков спит Григорий. Осторожно тормошит его, чтобы не растревожить рядом спящих. Проходит немало времени, прежде чем на опухшем от перепоя лице Григория открываются глаза.
— Айда-ка, — машет рукой Устинья Семеновна, прерывая его громкий зевок. — Живей, живей… Людей-то не всполоши…
Это предупреждение окончательно встряхивает с Григория сон, он быстро вскакивает, шагает за матерью к двери.
У ворот останавливается, коротко присвистывает.
— Ясно, — прищурив глаза, бросает он и оглядывается на соседские ворота.
— Сраму-то теперь — на весь поселок, — доносится торопливый полушепот матери. — Что теперь делать-то, Гришка?
Он стоит, утопив руки в карманы, невозмутимо размышляет о чем-то.
— Так, — словно очнувшись, роняет он, поворачиваясь к матери. — Буди Любку, пусть соскоблит и замоет пятна. А я сейчас…
Решительно идет к соседским воротам; повозившись с защелкой, входит во двор. Услышав позвякивание подойника, шагает в глубь двора и кивает оглянувшейся тетке Марине:
— Где Ванюшка? Давай-ка его сюда…
— Зачем он тебе в этакую рань? — сердито говорит тетка Марина, но идет будить сына.
Заспанный Ванюшка опасливо косится с крыльца на Григория.
— Идем-ка, дело есть, — коротко бросает Григорий, голос его звучит обыденно, равнодушно, и это успокаивает Ванюшку. Ростом он выше, да и из себя плотнее Григория. Но знает — жили ведь рядом, — что в иные минуты с коренастым, длинноруким соседом лучше не связываться: мертвой хваткой брал он противника, откуда и сила зверская бралась.
— Куда это? — шагает с крыльца Ванюшка.
— Пошли, пошли…
Молча выходят на улицу, идут к воротам пименовского дома. Темнеют, поблескивая густо-красным оттенком, беспорядочные дегтярные мазки на серых от времени досках двустворчатых ворот. На земле рядом — жирные пятна. Спешил, видно.
— Твоя работа? — кивает Григорий, зорко глянув на Ванюшку.
— Да что ты… — отступает тот, но Григорий не дает ему уйти далеко, он неожиданно и сильно бьет в лицо Ванюшку. Тот падает, но тут же вскакивает и бросается, сжав кулаки, к Пименову.
— Не лезь, — невозмутимо останавливает его Григорий, хватая узловатую березовую палку.
— За что? — стихает Ванюшка, тыльной стороной ладони вытирая кровь с рассеченной губы.
— Сам знаешь, не юли, — усмехается Григорий. — Ты не Любку и не зятя нашего обидел, а всю семью пименовскую, понял? Позор на мать да на меня ляжет, что не уберегли вроде Любку до замужества… А с нами связываться не советую. Кишки на кулак мотать умеем.
Ванюшка морщится, трогая вспухшую губу.
— Крепко, черт, вдарил, — без особой обиды произносит он. — Кому — выпивка от этой свадьбы, а кому — синяки.
— Бывает в жизни, — соглашается Григорий, доставая помятую пачку папирос. — На, закуривай… Из-под носа этот Андрюшка сестренку-то увел у тебя, мокрая курица. С ним вот, если есть охота, и разговаривай. И тоже крылья-то не расставляй. Он хоть и помельче тебя, а в шахте глыбы ворочает, силенка, по всему видать, есть… Ну, давай досыпай иди зорьку-то, а то сейчас Любка с мылом да горячей водой придет твои каракули смывать…
В соседней комнате продолжается свадебный гомон — хватанули сразу со сна еще не протрезвевшие гости крепчайшей пименовской самогонки и заговорили, загалдели, забыв о том, что день только начинается. А здесь, где жених и невеста, — тихо. Хмуро смотрит в окно Андрей, и в ушах все еще звенит сдержанно-злобное шипенье Устиньи Семеновны, заглянувшей словно ненароком сюда, едва Андрей проснулся:
— С деготьком вас! Людей-то добрых с законным браком поздравляют, а вам дегтю на ворота кто-то не пожалел…
И уходит, плотно прикрыв за собою дверь комнаты, и странно меняется голос ее, зазывавший гостей кушать, выпивать и закусывать, чем бог послал.
— Что там случилось? — встревоженно поворачивается к Любаше Андрей и тут только замечает: она плачет…
— Не надо, Люба! Ну зачем ты? — бросается он к ней, прижимает к себе — плачущую, обмякшую. — И пусть — деготь, грязь! Пусть… Мы же с тобой, и это — все! Правда ведь?
Любаша всхлипывает, мотает головой, и он едва улавливает ее сдавленный полушепот:
— С первого дня плакать начинаю. Долгой покажется жизнь. Что теперь подумают люди? Зачем все у нас не так? И мама… мама…
— Ну, перестань, Люба… Зачем тебе люди? Для меня ты самая… самая лучшая, понимаешь?
— Тяжело мне… Зачем маму не послушались? Вот и случилось… в наказание… Почему ты не сделал так, как она хотела?
Андрей хмурится, но молчит. Неужели не понимает Любаша, что глупо любую неприятность связывать с непослушанием матери. Сердцем угадывает он, что для Любаши этот деготь — не простая хулиганская выходка, а что-то вроде закономерного развития событий вслед за отказом идти под венец.
— Обещай мне, что ты будешь слушаться маму, Андрей, — поднимает заплаканные глаза Любаша. — Ты увидишь, что все сразу переменится в лучшую сторону… Обещаешь, да?
«Эх, Люба, Люба… Как заморочила тебе мама голову…» — думает про себя Андрей, а вслух говорит:
— Обещаю, что о тебе с этого дня буду заботиться прежде всего я, согласна?
— Не хочешь? — невесело качает головой Люба и отводит его руки. — Так и знала, что не захочешь, чтобы у нас все было хорошо…
Она отстраняется от него и шагает к окну, задумчиво хмурая.
— Идем, нас ждут, наверное, гости, — обращается к ней Андрей, подумав, что скоро должны прийти ребята из бригады. А может, и Вера с Василием будут… Надо с ними поговорить о квартире.
— А от мамы я никуда не пойду, — говорит Люба, и Андрей вздрагивает: так разительно совпали в этот момент их мысли.
Степан Игнашов утром, как его ни зовут ребята, на свадьбу идти не соглашается.
— Некогда, дел много, — отговаривается он. — Поздравить я их вчера поздравил, и обижаться на меня Андрей не должен.
— Опять за бумаги свои засядешь? — усмехается