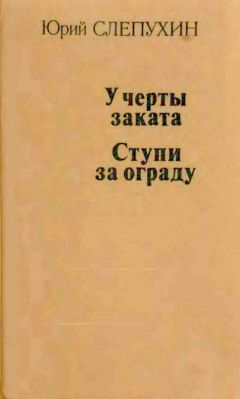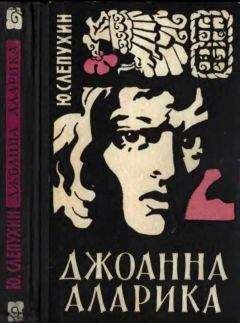— Я вас очень прошу, донья Ремедиос! — быстро сказала Беатрис. — Не нужно ничего писать, папа и без того волнуется. Уверяю вас, со мной ничего страшного! Просто у меня очень плохое настроение, ну и… Вы понимаете, у меня был один случай — еще до экзаменов, — когда я увидела, как гнусно могут поступать люди, совсем, казалось бы, порядочные… И я теперь никому не могу верить и не могу спокойно…
— Тебя кто-нибудь… обидел?
— Да не меня вовсе, донья Ремедиос. Я просто была свидетельницей! И разве это единичный случай… Я уверена, такие вещи творятся теперь всюду и в любой момент, понимаете! Как же можно быть спокойной, когда такое делается!
— Но что именно, ради всего святого?
— Ах, не все ли равно, — сказала Беатрис, нервно перекручивая перчатки. — Ну хорошо, я вам скажу. Вы понимаете… На моих глазах с совершенно чудовищной жестокостью отнеслись к одному рабочему, уволили его просто потому, что…
— Дора, Дора, — облегченно засмеялась сеньора де Гонтран, — я уже вообразила всякие ужасы, глупенькая моя девочка! А рабочий… Ну что ж, это, конечно, грустно, но рабочий может пойти в синдикат, пожаловаться, — в конце концов, в Аргентине нет безработицы, насколько мне известно. Можно ли забивать себе головку такими пустяками в твоем возрасте!
— Вы ничего не понимаете! — крикнула Беатрис. — О, простите меня, донья Ремедиос, но как можно не понимать таких простых вещей!
— Нервы, нервы, — успокаивающе сказала профессорша, гладя ее по руке.
В понедельник пришла машина из пансиона — старенький, дребезжащий пикап. Сеньора де Гонтран, испуганная молодостью шофера, с пристрастием допросила его относительно дороги, потребовала показать права и только после этого успокоилась, Посмеиваясь, шофер уложил в кузов вещи Беатрис, застелил одеялом сиденье с торчащими пружинами, и они поехали. Почти час машина ныряла и петляла по живописным горным дорогам, пока не очутилась на сонных улочках маленького курортного городка Альта-Грасиа. Здесь шофер, уже успевший рассказать все о пансионе и его обитателях, сказал, что должен забрать кое-какие продукты и что через полчаса — самое большее — они поедут дальше, а до пансиона тут остается неполных шесть километров.
— Я зайду на почту, — сказала Беатрис, — а вы подъезжайте к иезуитской миссии, хорошо? Я буду ждать там.
Четверть часа спустя она сидела на стертых ступенях древней церкви. Широкая, открытая площадь, ослепительное солнце, приземистое, вросшее в землю здание в стиле колониального барокко — так строились в семнадцатом веке почти все миссии Общества Иисуса на территориях вице-королевства Ла-Платы. Сглаженная временем каменная резьба, горячий песчаник, трава между покосившимися плитами и в трещинах карнизов. Юркнувшая откуда-то ящерица замерла в двух шагах от Беатрис, мгновенно перейдя от стремительного движения к мертвой неподвижности, зачарованно уставившись на девушку изумрудными бусинками глаз. «Иди сюда, — тихо позвала Беатрис, положив руку ладонью вверх на горячую шершавую плиту. — Иди, я же тебе ничего не сделаю…» Ящерица исчезла с той же непостижимой быстротой, как и появилась. Беатрис вздохнула и покосилась на пестрый конверт, который лежал рядом, прижатый треугольным осколком камня.
Нет, откладывать чтение просто глупо. Она взяла конверт, медленно, словно не решаясь, вскрыла и вытащила три исписанных на машинке листка прозрачной бумаги. Горячий ветер зашелестел ими, пытаясь вытащить у нее из пальцев. Беатрис разложила бумагу у себя на коленях, придерживая края.
«Уиллоу-Спрингс, 24 ноября 1953
Моя любимая,
твое письмо я получил сегодня утром. Я думаю, ты просто переутомилась в колледже за эту зиму. Иногда весна действует на нервы, скорее всего этим и объясняется твое совершенно ужасное настроение.
Трикси, ты не должна ничего бояться. Не сочти за хвастовство, но мои акции в «Консолидэйтед» уже поднялись на несколько пунктов. После того как я выполнил небольшую пробную работу, меня включили в одну из проектных бригад. Практически это означает, что я признан. Правда, получаю пока только 75 в неделю, но Рою, например, дали первую прибавку уже через три месяца (сейчас он загребает 5000 в год). Я узнавал, здесь можно купить дом на хорошей улице с ежемесячной выплатой около 80 долларов. За вычетом этого и долларов 30 за автомобиль, нам будет оставаться около 300 в месяц (я имею в виду такую же зарплату, как сейчас у Роя, т. е. 100 в неделю). При теперешнем уровне цен на это можно прожить совсем неплохо. Так что тебе совершенно не о чем беспокоиться, моя будущая маленькая скво.
Работа у меня будет очень интересной, пока я в нее еще не полностью вошел. Жаль, что нельзя тебе об этом рассказать, да ты все равно ничего бы и не поняла. Наше проектное бюро начинает разработку эскизного проекта машины, равной которой не будет в мире. На мою долю, конечно, придется в этом грандиозном деле совсем немного, но все равно, интересно в высшей степени. Когда еще приедешь ты, моя любимая девочка, я буду счастливейшим парнем в мире.
У нас уже осень, сегодня весь день сильный туман и моросит. Когда мы с Роем возвращались с завода в его машине, на нас в тумане налетела какая-то леди, смяла заднее крыло и оторвала бампер.
Настоящей зимы в Нью-Мексико нет, а вот мы с тобой съездим когда-нибудь в наш Мэн, у канадской границы, там ты увидишь снег, иногда наметает выше человеческого роста. Ты, очевидно, не умеешь бегать на лыжах? Я тебя научу, это отличная вещь.
Пока кончаю, моя любимая. Отдыхай вовсю и пиши мне почаще: твои письма для меня такая радость. И не забывай присылать фото, с сентября ты не прислала ни одного. Ты ведь обещала, Трикси, что будешь фотографироваться каждый месяц и присылать мне. Помнишь? Привет мистеру Альварадо.
Целую тебя — как тогда.
Твой Франклин.
Р. S. Моя любимая, я все равно не могу отправить это письмо в таком виде, тактика страуса еще никогда не давала результатов. Конечно, не всегда любовь выдерживает испытание временем и разлукой, я понимаю. Если с тобой случилось именно это, если ты мне прямо скажешь, что так оно и есть, — я просто замолчу. Тут уж ничего не поделаешь, Трикси, я понимаю. Но я все-таки не могу в это поверить. Ты не такая, как другие девушки, чем больше я о тебе думаю, тем больше в этом убеждаюсь. И я так же твердо верю в себя, в то, что сумею дать тебе счастье, моя единственная любимая. Mi solo amor — это правильно по-испански? Может быть, все это еще не так страшно и у тебя действительно только временная депрессия, мало ли от чего — от жары, от расстроенных нервов. Мне страшно представить себе, Трикси, что со мной будет, если ты и в самом деле ко мне переменилась. Пятнадцать месяцев я думаю только о тебе, только о жизни с тобой, и если сейчас все это рухнет, я окажусь как перед пропастью. Впрочем, я пишу глупости. Дело не во мне, дорогая. Я знаю, что моя любовь сумеет защитить тебя от всего в жизни, что бы ни случилось, и не думаю, чтобы это смог дать тебе какой-нибудь другой мужчина. Ты скажешь — хвастовство, но я сейчас просто пишу то, что думаю. Неважно, как это выглядит, сейчас это не имеет никакого значения.
Я не знаю, что тебе еще написать, моя любовь, моя маленькая черноглазая девочка. Если бы я смог сейчас очутиться рядом с тобой — все стало бы по-прежнему, я в этом уверен. Трикси, я вспоминал сегодня нашу первую встречу — у входа в инженерный факультет в Байресе, помнишь, такое огромное готическое здание из красного кирпича? Тогда было очень холодно — солнечный зимний день с пронизывающим ветром, — и ты была в кремовой канадке с капюшоном, меховым изнутри, и вся раскрасневшаяся от холода. Помнишь? А потом, когда мы вдвоем ездили в Ла-Плату на твоем старом «форде» и пришлось менять покрышку на полпути — в парке или в лесу, где такие красивые ворота в виде сдвоенной башни. Я тогда обнял тебя и испачкал твою курточку, и мы едва оттерли пятна и потом замывали их около ручья.
Трикси, я хочу, чтобы ты все это вспомнила. Если, конечно, тебе эти воспоминания еще приятны. Для меня они — самое светлое в жизни, и всегда этим останутся. Я буду любить тебя всегда и везде, что бы ни случилось, в горе и в радости. Больше мне нечего тебе сказать.
Я буду ждать твоего ответа.
Ф.Х.» 10
В полутемном зальце пульперии[36] было душно и пахло прокисшим вином и кухонным чадом. У стойки лениво перебрасывались словами двое посетителей. Озлобленно гудели мухи под темным дощатым потолком.
Было жарко. За окном калилась на солнце пыльная площадь — такая же, как в любом из этих местечек: белые одноэтажные домики с плоскими крышами и зарешеченными окнами до самой земли, чахлая зелень, коновязь, возле которой понуро стоял оседланный гнедой мерин. Седло было гаучское — непомерно широкое, с круглыми кожаными стременами, покрытое овчиной, шерстью наверх. Чуть поодаль, за оградой из порванной проволочной сетки, лениво бродили на голенастых ногах два неизвестно зачем посаженных сюда ньянду[37] — какие-то общипанные, тускло-серого цвета, с крошечными головками на голых шеях.