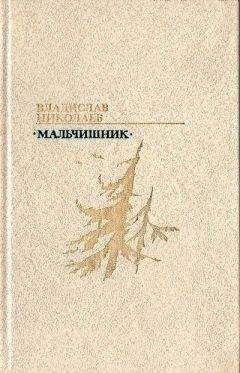— Не суй-ка, Cepera, нос не в свои дела. Помолчи лучше.
Многие начальники партий летом вывозят своих сыновей в поле, сплошь и рядом зачисляя их на должность рабочего. Бывает, под покровительством отца-начальника парнишка ничего не делает, откровенно баклуши бьет, однако зарплата ему идет. Андрей не сомневался, что пятнадцатилетний Сережа тоже числится в платежных ведомостях, поскольку работает не менее других, и был немало удивлен, когда узнал — не числится. Этот факт со знаком плюс тоже был отнесен к достоинствам Сан Саныча как руководителя.
…Перевернулось у Андрея представление о природе края. Какой он ее представлял, здешнюю природу, когда ехал сюда? Вечная мерзлота, топи, болота — гиблая, ничего не рожающая земля, куда зверь не забродит, птица не залетает, рыба не заплывает. В действительности же дня не проходило, чтобы не встречал он в маршруте оленя либо лося. Лоси бродили поодиночке, на глаза всегда попадались в тот момент, когда, хрустя клешневатыми копытами по гальке, переходили какую-нибудь речку. Олени небольшими табунками — в три-пять голов — гуляли по нагим вершинам, на которых, казалось, и щипать-то было нечего.
За вчерашние сутки, в течение которых неутомимый Валера-вездеходчик перебросил партию за сто двадцать километров на базу, настреляли ворох дичи, набили несколько мешков кедровых шишек. Но самое удивительное предстало уже на солнцезакате, в конце пути. Ехали по южному склону невысокой горушки, поросшему реденько по голубым мхам где лиственницей, где елкой, где березкой. Вдруг вездеход встал, из водительской кабины просунулась в кузов голова Сан Саныча:
— А теперь все по грибы! Наберем на жареху.
Выпрыгнув из вездехода, Андрей так и обмер: весь склон, сколько хватало глаз, был усыпан грибами! Да не какими-нибудь бросовыми сыроежками, а самыми настоящими подосиновиками да сырыми ельничными груздями. Ступить некуда — столько грибов! Подосиновики стояли многоглавыми кучами, среди которых были и едва высунувшиеся изо мха буравчики с неразвернувшимися шляпками, и огромные крестьянские хлебы на могучих, как дерева, ножках. В тех и других — ни червоточинки. Ельничные лежали на мху, как медали на подушках, и в вороночках у них скопилась прозрачная роса: на трубчатых ножках, только сломишь, выступало белое молочко.
Нет, не врала на воркутинском базаре железнодорожница: в самом деле в Заполярье растут грибы, да еще как!
…А теперь вот своей редкой красотой вошло в его сердце Пятиречье.
Окатив себя до пояса ледяной водой, растеревшись махровым полотенцем, Андрей отправился в лагерь. Он шагал через осенние заросли карликовой березки, и его намокшие после умывания сапоги будто разноцветным конфетти облепило мелкими березовыми листочками: бордовыми, фиолетовыми, синими, пурпурными, желтыми.
Перед шатровой палаткой пана Шершня под марлевым пологом стояла на столбиках четырехугольная деревянная рама, на которую рядов в десять была натянута бельевая веревка; прицепленные алюминиевыми крючками, тесно висели на ней завяленные хариусы. С полсотни метров такой веревки протянулось между деревьями в ближнем леске, и вся она тоже увешана хариусами. Разрезанные по-комяцки вдоль хребта со спины, с застывшими струйками золотистого жира, походили они на изящные модели древнерусских стругов с загнутыми вверх носами и кормой.
Андрей не утерпел и заглянул в палатку. Там над железной печкой тоже были натянуты веревки с распятыми рыбами. У дальней стенки возвышался топчан, а в его ногах на подставках, призванных предохранить от сырости, стояли два больших фанерных ящика из-под «Беломорканала», с горой заполненные уже готовой продукцией. Хариусы в них лежали без распорок, в расплюснутом виде.
«Да здесь запущена целая фабрика вяленой рыбы! — с удивлением покачал головой Андрей. — И все это наворотил один человек!»
4
У завхоза имелись и собственное имя и фамилия — Аркадий Бугров, однако все в партии, кроме Сан Саныча и Галины Николаевны, навеличивали его паном Шершнем.
Хотя пан Шершень с партией не кочевал, все лето просидел возле продуктов на базе, вспоминали о нем беспрерывно, особенно во вторую половину сезона, когда на него свалился неожиданный штраф. Дело было так. На базе имелась рация, и раз в сутки, чаще всего вечером, пан Шершень связывался по ней с Сан Санычем, докладывал о своем житье-бытье. Обычно его информация укладывалась в одно слово: «нормально», но однажды он разговорился вовсю:
— Мясо сегодня кушаю. Утром птицу подстрелил.
— Что за птица? — полюбопытствовал Сан Саныч.
— Да большая такая! Вкусная! Как ее?.. Фу, дьявол. Вертится на языке название, а вспомнить никак не могу. В общем, жена глухаря!
— Копалуха, что ли?
— Во, во! Именно копалуха! С выводком была.
— Ну, ты даешь, Аркадий! Сказанул же: «жена глухаря»! Ха-ха!
Надо же такому случиться: именно в это время, ни раньше, ни позже, по ошибке вышла на чужие частоты охотинспекция в Елецкой, разговор про жену глухаря инспекторов заинтересовал, и они записали его на магнитофонную ленту. С очередным рейсом вертолета на имя начальника партии Савельева пришло судебное постановление, требовавшее вычесть из зарплаты рабочего А. Г. Бугрова штраф в размере ста рублей за уничтожение копалухи в неположенное время. Ребята тут же окрестили этот штраф «птичьими алиментами».
И теперь, сидя за обеденным столом, пан Шершень находился в центре внимания. Это был мужчина лет тридцати семи, невысокого роста, с сухим чисто выбритым лицом, с которого не сходило насмешливое выражение; на человека, с коим разговаривал, взглядывал коротко, быстро, но остро и твердо, чувствовалось, что на все в жизни у него имеются свои понятия и за словом в карман не лазит. Заломленная на затылок фуражка с насаженными над козырьком цветными рыболовными мушками придавала ему чрезвычайно бравый вид. В ногах пана Шершня терлась рыженькая собачонка, не вышедшая еще полностью из щенячьей поры.
По случаю проливного дождя, хлынувшего под утро, с гол был накрыт в продуктовой палатке, и на нем чего только не было: и грибы, и дичь, и приправа к ней, и какао, и свежие пышные лепешки вместо осточертевших сухарей. Геологи после бани сидели вокруг стола розовые, просветленные, благостные. Сан Саныч с сочувственной улыбкой поворотился к пану Шершню:
— Говорить-то еще не разучился в одиночестве?
— Да нет вроде. Но вот гавкать рядом с нею выучился, — показал Аркадий на собачку под столом.
— Вид у тебя, пан Шершень, — заговорил похожий на сказочного русского витязя здоровяк Гена, — с этими цветными мушками на фуражке, как у первого парня на деревне. Не мушки будто наколоты, а ромашки или незабудки.
— Ты бы, Гена, лучше не отвлекался от еды, — в ответ вежливо посоветовал пан Шершень. — По твоей комплекции за двоих тебе надо за столом пахать.
— Ты-то уж, поди, не отказывался от рыбки, вволю поел за лето? — спросил Валера.
— Поверите ли: супу либо каши ни разу не варил. На одной рыбе жил. И до сих пор не приелась.
— Насквозь фосфором пропитался, — подытожил Сан Саныч. — Вернешься в город, можно на спички тебя пускать.
— Вот было бы хорошо пустить себя на распродажу хоть в качестве спичек. Из чего-то надо же платить «птичьи алименты», будь они неладны. Несколько мильенов головок из меня должно получиться. Ого-го, и на себе, оказывается, можно неплохо заробить.
— Как нынче ловилось? — поинтересовался кто-то.
— Ловить тут очень даже можно, пять все-таки речек под рукой, но турист проклятый одолел. Сказывают, из-за пожаров южнее по Уралу его нигде нынче не пускают, вот он весь и прикатил на Полярный. Прет и прет по Бур-Хойле. Каждый день не по одной группе. Из Москвы, Львова, Челябинска, Свердловска и черт знает еще откуда. Свердловчане в трехстах метрах отсюда посадили плот и никак не смогли снять, бросили на произвол судьбы. Можете сходить полюбоваться. Классное сооружение: с рулями, с палубой для рюкзаков… Вот и побаивался все лето развернуться по-настоящему с рыбалкой-то. Одно найдешь, другое потеряешь. Найдешь рюкзак рыбы, а потеряешь всю базу. За нее в десять лет не рассчитаться. Словом, далеко я не бегал, в ближних ямках шерудил… Никак не пойму этого туриста. Целый год упирается на производстве, собирает по копейке капитал, чтобы летом отправиться в отпуск не куда-нибудь на юг, а в наши забытые богом места. А здесь снова упираться, пахать, да еще пострашнее, чем на производстве. Думаете, он отдыхает в походе? Как бы не так! Понаблюдал я за ним. Встает ранехонько, словно по гудку. Не успеет позавтракать, ноги в руки — и полный вперед! А рюкзачище, как валун, его давит — аж землю носом клюет. Дождь ли, снег ли — шлепает в своих разбитых кедах. Попискивает только в них. Болотные сапоги редко у которого имеются. На ночлег останавливается уже в потемках. Дрожит, как каторжанин. Да и вообще на каторжанина шибко смахивает: оборванный, заросший, голодный. Все лето у меня попрошайничал: то ему крупки продай, то сухариков, то сахару. Ладно, Галина Николаевна разрешила продать часть продуктов, а не разрешила бы, что бы он делал?.. А уж как он ночь проводит, вовсе представить не могу. Без печки в палатке собачий холод. Правда, спальник у него почти всегда имеется, но уж больно несерьезный: узенький, тонюсенький, рассчитанный, видно, на черноморский климат. Нагляделся я на туриста и рассудил: ежели бы за такой отдых даже деньги платили, ни за что бы не согласился так отдыхать.