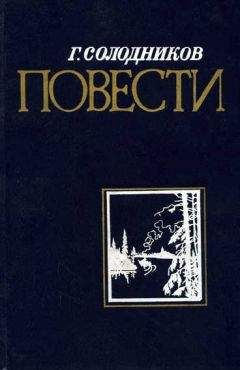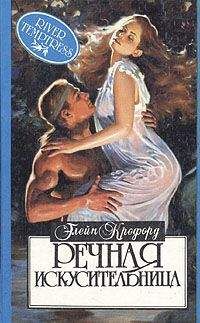— А ты не кисни! Лучше разозлись на меня. Перекостери в душе — и за работу! Ведь ты как-никак старший техник. Старший! А тебя, честно говоря, на долгое время за себя оставить-то боязно.
Начальница энергично прихлопнула рукой по столу, считая деловой разговор оконченным:
— Ну, все! Надо собираться.
Парни вышли. Люба придвинулась к столу, пристально посмотрела на Капитолину Тихоновну. Она сразу заметила, что маме Капе нездоровится. Лицо у нее было осунувшееся, изжелта-бледное, кожа шероховатая, пористая. Это желтизна, тусклый блеск уже отцветших рыжеватых волос, горькие бороздки губ сразу же состарили ее.
— Опять язва, ага? — участливо спросила Люба и страдальчески сморщилась, словно она сама, а не Капитолина Тихоновна мучилась от боли.
— Она, проклятая! Ничего, пройдет… Это все война да послевоенные годики на подножном корму дают себя знать.
Через час, в последний раз взяв брандвахту на буксир и поставив ее посреди воды, «Кречет» ходко побежал по течению и вскоре скрылся за поворотом. Венька с Виктором, разбив рабочих на две бригады, отправились прокладывать магистраль.
Среди необъятных болот где-то горели леса. В прозрачные ночи на западной стороне небосклона играли малиновые тусклые всполохи, редкий ветер доносил беспокойный запах пережженной смолы и горелого торфа. Несколько раз собирался дождь, но словно испарялся, не долетев до земли, в прокаленном до звона воздухе.
И сегодня на северо-западе, в «гнилом» углу, заворчал, заворочался поутру гром. Заклубились, забурлили облака, потом потянулись грязные, перистые космы.
Нечем стало дышать, воздух был парной, плотный. Замолкли птицы в прибрежных кустах, загустела тишина, лишь монотонно взбулькивали меж лодок под кормой речные струи да рыжий канюк на лиственничной сушине привычно гнусавил: «Кий… Кий», будто просил: «Пить… Пить…»
Но прошел час-другой, и снова расплавленно-однообразно сверкало небо. Туча ушла стороной, затихло недовольное грозное урчание.
Вторую неделю брандвахта болталась на якоре посреди реки. Уже истомились от ожидания, а Капитолины Тихоновны все не было. Оставалось единственное решение: кому-то идти в Пальники. Или начальница попадет навстречу, или они позвонят оттуда в техучасток, узнают, почему она задержалась, и получат дальнейшие распоряжения. Кроме того, в партии кончались продукты, необходимо было пополнить запас.
Венька по праву старшего заявил, что пойдет сам. Виктор ничего не мог возразить на это, так как на месте не было дел ни тому, ни другому. За три дня ожидания они завершили первичную обработку материалов. Натесали впрок колышков-пикетов, кое-что сделали по мелочам.
Кто же пойдет с Венькой вторым? Не успел Виктор мысленно перебрать всех оставшихся, как Люба твердо сказала:
— Я пойду с ним.
Венька не сумел скрыть радости. Да и Люба смотрела на него так, будто решилась на что-то важное и теперь вручала ему свою судьбу.
Виктор поначалу не обратил на это никакого внимания и пытался доказать, что лучше взять с собой кого-нибудь покрепче, повыносливей — ту же Райхану. Но Венька припечатал поспешно:
— Все, решено! Пойдет Люба.
Тут уж Виктор спорить больше не стал. Собственно, какое ему дело? Старший — Венька, он решает, он и отвечает за все и перед коллективом, и перед начальством. А ему, Виктору, важно свои обязанности выполнять, и этого вполне достаточно. Во всяком случае, для душевного спокойствия…
Старший техник к тому времени для Виктора оставался все еще загадкой. По училищу он помнился смутно, так, пожалуй, только в лицо. Когда Старцев уходил в армию, Венька начинал лишь второй курс.
Здесь, в работе, отношение к нему сложилось двойственное: то он нравился Виктору и между ними возникала какая-то душевность, то вдруг раздражал, и тогда Виктор становился сух с ним, снисходителен, подчеркивая свое возрастное старшинство.
Работал Венька по настроению, и, когда вдруг увлекался, на него было любо посмотреть, сидел ли он в это время в промерном катере перед эхолотом, или старательно колдовал над планшетом. Особенно легко было с ним в редкие часы отдыха, когда он брал гитару. Озорные частушки, потешные припевки сыпались из него, как картошка из худого мешка. И песен он знал немало, причем таких, которых Виктор не слыхивал раньше. Любил, правда, порисоваться Венька, иногда поерничать, да разве в этом суть?
Отвяжися, тоска,
Пылью поразвейся!
Что за грусть, коли жив —
И сквозь слезы смейся!
Запоет так вот после напряженного жаркого дня, легче не легче, но покойнее становится на душе. И комары вроде меньше жалят, и не таким далеким город кажется, и конец навигации — вот он, близко, каких-то три месяца…
Венька вырос в городе, и это заметно сказывалось на его работе в полевых таежных условиях. Виктор по свойственной ему некоторой самоуверенности считал, что вот он, сельский парнишка, пообтерся в городе и быстро познал его премудрости. А кинь иного горожанина вглубь, в тайгу, оставь на время одного — надолго ли его хватит? Вот и Венька ни топора в руках держать толком не умеет, ни места для ночлега обустроить, ни пищу раздобыть. Глух к грубой мужицкой работе и к лесу вообще со всей его разноликой живностью. Познать все это, полюбить — не в городе освоиться, тут двух-трех лет недостаточно, надо с детства этим жить или позднее потратить весомый кусок жизни. Правда, у Веньки тоже все еще было впереди: какие его годы!
На отношения старшего техника с чертежницей Виктор тоже смотрел по-своему. Считал, что все это несерьезно — так, баловство одно от скуки и одиночества. Люди они, в общем-то, взрослые, знают, что к чему. Потянуло на время друг к другу — пожалуйста, не велик грех. Так же просто можно сказать и до свидания.
Виктор, конечно, понимал, что нехорошо так думать о людях. Да что поделаешь, сам он до сих пор не научился в обращении с девчонками разным тонкостям. Или никаких отношений вообще, или сразу напролом.
В пятнадцать лет, в самый переломный момент, он стал видеть девчат, по сути дела, лишь из окошек училища. С каждым годом они становились все более далекими, непонятными и заманчивыми. Редкие дни увольнений да праздничные вечера, на которые приглашались девчонки, — и опять одни парни вокруг. Говорили о девчатах чаще всего грубовато, с оттенком пренебрежения, а иногда и брезгливости. Особенно отличались этим курсанты постарше, кое-что повидавшие. Уж они-то любили блеснуть перед салажатами, не скупились на рассказы, смачные, грязно откровенные.
Сколько лет прошло, а у Виктора до сих пор живо тогдашнее ощущение от тех рассказов — ощущение тоски, горькой обиды непонятно на кого, отвращения к собственной виноватости.
Потом он, конечно, привык, притупилось все, стало обыденным. На военную службу пришел уже парнем тертым. И там все было по-старому. В еще более редкие и краткие увольнения между выходами в море, в случайные «забеги на берег», всегда не хватало времени на всякие там деликатности, и поневоле вопрос перед подружками-однодневками приходилось ставить ребром: или — или. Позднее уже понял Виктор: никакое это не оправдание. Просто не было у него настоящего чувства — в этом вся беда.
Замечая между Венькой и Любой всякие мелочи — жест, взгляд, с особой интонацией брошенное словечко, — Виктор поначалу отмахивался сам от себя: дурь это, ничего между ними нет. Голодной куме все шаньги на уме. Но постепенно приходилось убеждаться в обратном. А сегодня, увидев Венькину радость и Любину решительность, с какой она вызвалась идти в Пальники, Виктор понял: во всяком случае для нее это не фигли-мигли. Уж кто-то, а она не из тех, кому попусту можно морочить голову.
Виктор вдруг поймал себя на том, что думает о Любе с необычной для него братской заинтересованностью. И даже не удивился, потому что давно уже крепло в нем уважение к этой серьезной, самостоятельной девушке. Сейчас его больше всего тревожило одно: «Как поведет себя Венька?»
Лесовозная дорога была настолько старой, местами так заросла, что еле угадывалась. В сырых приречных низинах ее затянуло кустарником, травостоем. Пока продирались, вымокли по самые плечи. Обильная роса предвещала снова ведренный день.
Лишь на открытых местах, средь выгоревших полян и на песчаных угорах, затянутых хрустящим мхом, проглядывали колеи. Прошлые вырубки заполонило лиственное разнолесье, заглушаемое понизу малинниками и густыми кулижками кипрея. Из его семенных коробочек местами полез белый пух — свидетельство преждевременной зрелости. Малинники, тоже спаленные жаром, стояли поникшие, с ржавым ущербным листом. Ягоды были мелкие, плохо снимались со сторожков, рассыпаясь под пальцами на зернышки. В затененных местах, по склонам глухих ложков, может, и была настоящая малина, крупная, сочная. Но Веньке с Любой не до нее. Они шли вперед, стараясь по холодку, пока не начал свирепеть гнус, пройти как можно больше.