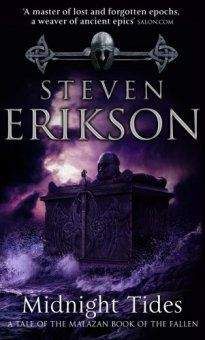Лагутина вошла в кабину пульта автоматического управления печью.
— Ваш пропуск, — вежливо попросил ее молодой сталевар.
Взглянув на корреспондентский билет, юноша вернул его Лагутиной.
— Этого недостаточно. Нужно разрешение начальника. Пройдите, пожалуйста, в его кабинет. Вон туда. — И, как бы давая понять, что сам тяготится нелепым порядком, сконфуженно пожал плечами: — Так у нас заведено.
Гребенщиков сегодня не в духе. Не выспался. Заболела дочь, пришлось несколько раз вставать к ней ночью. Однако корреспондентку он встретил с максимальной любезностью. Даже предложил свои услуги для ознакомления с цехом. К его удивлению, Лагутина отказалась — привыкла экономить время у начальства, к нему, возможно, придет выяснить лишь то, что останется неясным и что никто не сможет объяснить.
Обычно газетные работники берут у Гребенщикова интервью и отражают, как правило, его мнение. С такой независимостью он встретился впервые, это удивило его и насторожило.
— Вы хоть просмотрите отчет о работе за полгода, — предложил Гребенщиков и протянул папку. Он уже убедился в том, какое магическое действие оказывают на журналистов трехзначные цифры перевыполнения плана.
От такого предложения отказываться было неловко, и Лагутина принялась просматривать материалы.
Вошла секретарша, доложила, что пришел профессор Межовский.
— Просите.
С Межовским Лагутина была знакома. Слышала но один раз его выступления и даже написала статью в поддержку его метода ускорения плавок продувкой металла сжатым воздухом.
Увидев Лагутину, Межовский не сдержал возгласа удивления.
— Тесен мир, — улыбнулась Лагутина.
— А вас сюда какие ветры занесли?
— Прочитал вашу работу, доктор. Обстоятельно, с пометками. Интересно. Но многое парадоксально и в моих мозгах не укладывается, — скороговоркой произнес Гребенщиков, вынул из стола пухлый том. — Не верю, что сжатый воздух может ускорить плавку, не ухудшив качества металла. Никуда не денетесь, азот… Он растворится в металле.
— Обычный путь нового, — грустно ответил Межовский, — не сразу укладывается.
— Может быть, может быть. Но у меня есть железное правило: не тратить время на эксперименты, в безрезультатности которых уверен. К тому же такой большой цех — не лаборатория для подобного рода опытов. Я исповедую одну веру: бог металлургии — кислород. Цеху нужен кислород. Вот на третьей печи. Даем его в факел — и какой результат!
— Было время — и кислорода боялись, как черт ладана. — Межовский, как лезвием, резанул блестящими черными глазами. — Пророчили и плохое качество стали, и взрывы — чего только не пророчили! Кстати, кислорода в достаточном количестве вы еще года два не получите. Слишком уж сложна и дорога кислородная установка.
— Я не сторонник заменителей. Если применю ваш воздух, то кислорода вовсе не получу, — неожиданно для самого себя проговорился Гребенщиков и опасливо взглянул на Лагутину — не засекла ли та истинную причину его отказа. Но она сидела, погруженная в цифры, и, казалось, ничего не слышала, ничего не видела. — Я достаточно изучил наши планирующие органы. Если есть солома, они отрубей не дадут.
Межовскому известен характер Гребенщикова. Сказал «да» — это еще не означает «да», сказал «нет» — это непреоборимо.
— Идите, Яков Михайлович, в старый цех, — переменив тон на участливо-дружеский, посоветовал Гребенщиков. — А вдруг? Там все пробуют, дабы не прослыть консерваторами.
Лагутиной очень хотелось выйти вслед за Межовским, потолковать с ним с глазу на глаз, по она постеснялась Гребенщикова. Решит, что с ходу ухватилась за сюжетик.
— Межовский — фигура трагическая, — придав лицу скорбное выражение, пояснил Гребенщиков. — Его изобретения в тридцатых годах намного опередили технические представления, а сейчас это уже вчерашний день техники.
— Позвольте, значит, у него никогда не было сегодняшнего дня? — поддела его Лагутина.
— Что греха таить, многие изобретения становятся вчерашними, так и не став сегодняшними. Обсуждают их пригодность до тех пор, пока они морально не устаревают. А потом разводят руками. Соратники — с огорчением, противники — с радостью. И ни с кого никакого спроса. Ни с тех, кто плохо отстаивал, ни с тех, кто упорно сопротивлялся.
— Но вы, кажется, в одном лице совмещаете опровергателей всех времен, если и сейчас еще опасаетесь, что металл будет насыщаться азотом, — снова поддела Лагутина и, не дав возможности парировать удар, спросила — Не потому ли вы и кислород вводите в факел, а не в жидкий металл? Ведь продувка кислородом вдвое эффективнее.
— Свою точку зрения на этот вопрос я изложил в вашей газете неделю назад, — сухо ответил Гребенщиков. — Называется она «Прожекты, прожекты…»
— Я ознакомлюсь с нею, хотя само название вскрывает содержание, — также официально произнесла Лагутина, еще раз озадачив этого самолюбивого человека.
Гребенщиков не успел ответить на ее выпад. В динамике прозвучал голос директора, началось селекторное совещание.
Лагутина выскользнула из кабинета и быстро пошла в цех.
Профессора она нашла там, где и ожидала, — у печи, которая привлекала общее внимание. Он заносил в записную книжку показания приборов.
— Как вам разговор? — поинтересовался Межовский.
— А вы уже и лапки сложили?! — Да нет, зачем же…
— Яков Михайлович, если у вас тут больше дел нет, уделите мне немного времени.
Прошли по длинному коридору, спустились вниз и очутились на заводском шоссе.
— Вы знаете, Дина Платоновна, в чем наша беда? — заговорил Межовский. — Мы порой упускаем тот факт, что человеку свойственно переходить в другое качество. Был одним — стал другим. Иногда это обусловливается обстоятельствами, иногда — новой должностью, а чаще всего появляется с возрастом. Инертность мышления — для нас это понятие не ново, а вот инертность отношения… Отольем в своем сознании стереотип человека, и так, без коррективов, он существует. Год, два, десять… Выработалась привычка считать его таким. Он уже изолгался, а мы продолжаем думать, что он твердит истину, он совершает ошибку за ошибкой, а мы стараемся не замечать их и по-прежнему считаем его непререкаемым авторитетом.
— Но, бывает, спохватываемся…
— Бывает. И тогда разводим руками: как же, проглядели, как же, не досмотрели! И досаднее всего, когда такие люди занимают посты, дающие возможность решать или, еще хуже, не решать вопросы.
— На меня Гребенщиков не производит такого впечатления, — возразила Лагутина. — Энергичный, волевой, дай бог другому молодому столько экспрессии. Боюсь, вы пристрастно о нем судите.
— Да, я субъективен, — согласился Межовский. — Но субъективизм — это линза, позволяющая разглядеть то, чего не видят другие.
Нравится Лагутиной Межовский. Он — как самозаряжающийся аккумулятор, всегда равномерного, высокого потенциала. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Не очень рано, но и не поздно — в сорок лет. Сколько людей, «остепенясь», почили на лаврах, успокоились. Обсасывают по десятку лет малозначительную темку, и им не жарко и не холодно от того, пригодится ли диссертация людям или будет пылиться на архивных полках. Их вполне устраивает такая жизнь, о другой они не помышляют. Яхты, укрывшиеся в гавани, где никакие ветры не задевают парусов. А этот борется, а у этого вся жизнь — сплошное наступление. Убеждать, настаивать, оспаривать, внедрять.
— Нет, нет, Дина Платоновна, — горячился Межовский, — Гребенщиков уже не летает. Он планирует. Держится на воздушной струе, которую создает ему былая слава. Опрометчивых поступков он не делает — достаточно умен и опытен, но мозг его уже отгородился защитным покровом от свежих идей, принадлежащих другим, и даже от своих собственных.
— Не знаю… Видела его первый раз.
— А вот под ним ходит Рудаев. Не знакомы? Познакомьтесь. Очень чувствует новое. Но он зажат, как и все остальные в цехе.
— Этот Рудаев, очевидно, разделяет вашу точку зрения?
— Да.
— Вот в чем корни ваших симпатий и антипатий. Межовский недружелюбно посмотрел на Лагутину.
— Не отношение к моей идее высветляет для меня человека, а отношение ко всякой новой идее вообще, реакция на новое. Степень проницаемости черепной коробки.
— На каких заводах ведут продувку металла воздухом? — спросила Лагутина и достала из сумочки блокнот.
— Вот он, легок на помине! — воскликнул Межовский, увидев Рудаева.
— Я очень боялся, Яков Михайлович, что вы уже уехали. С шефом у меня произошел крупный разговор. — Рудаев покосился на Лагутину.
Межовский понял его взгляд и взглядом успокоил: можно, говорите.
— Журналисты — народ опасный. Не так ли? — не особенно дружелюбно произнесла Лагутина. — Что ж, могу оставить вас вдвоем, — добавила с обидой в голосе, однако не тронулась с места.