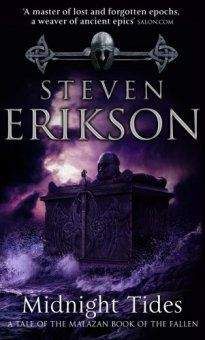— Я очень боялся, Яков Михайлович, что вы уже уехали. С шефом у меня произошел крупный разговор. — Рудаев покосился на Лагутину.
Межовский понял его взгляд и взглядом успокоил: можно, говорите.
— Журналисты — народ опасный. Не так ли? — не особенно дружелюбно произнесла Лагутина. — Что ж, могу оставить вас вдвоем, — добавила с обидой в голосе, однако не тронулась с места.
Рудаев шумно вздохнул, достал папиросу, закурил.
— Знаете, что мы сделаем, Яков Михайлович? — сказал озорно. — Первого августа Гребенщиков едет в Карловы Вары, а мы с вами дунем воздух. Рискнем во имя науки.
— Не хочу.
— Почему?
— Потом Гребенщиков выдует вас из цеха. Рудаев задумался.
— Откровенно говоря, не хотелось бы этого. Но пришла пора идти в наступление. Только проведите небольшую работу с директором. Он незнаком с особенностями вашего метода.
— Он против Гребенщикова не пойдет.
— И все же попробуйте разъяснить ему, что это не пустая забава. Игра стоит свеч. Тогда мне легче будет отдуваться.
— Н-да… — неопределенно произнес Межовский. — Легче… А вам известно, что в Кузнецке, — он исподлобья взглянул на Рудаева, — что в Кузнецке, когда я проводил опыты, обрушился свод? Вы отдаете себе отчет в степени риска, на который идете? Вы ведь приняли такое решение сгоряча.
— Ничего подобного. Я все тщательно взвесил и уверен, что так нужно.
— И сколько времени вы думаете отвести на опыты?
— Месяц. Чем дольше — тем убедительнее.
— Тогда как вы спрячете подготовку?
— Мне трудно определить меру откровенности. — Рудаев снова недвусмысленно покосился на Лагутину.
«Нет, он взрослее и занятнее, этот человек, чем показалось сначала», — подумала Лагутина. И вое же обидное чувство шевельнулось в душе. Захотелось и самой подковырнуть Рудаева, чтобы не остаться в долгу.
— Я не совсем понимаю, чего вам, собственно, хочется, — обратилась она к Рудаеву, — решить техническую проблему или разрушить миф о непогрешимости Гребенщикова?
— И то и другое, — не замедлил с ответом Рудаев и повернулся к Межовскому. — Вы сможете обеспечить исследования на двух печах одновременно?
— Почему на двух?
— На третьей дадим кислород не в факел, а в ванну. Сразу получим сравнительную картину, что и насколько выгоднее. На второй будем дуть в металл сжатый воздух и выявим его эффективность.
— Вот это размах! — Восхищенный Межовский, казалось, уже забыл о том, какой опасности подвергает себя Рудаев. Торжествующе взглянул на свою спутницу.
Лагутина озабоченно сжала губы. Она понимала, что Рудаев многое ставит на карту. Начальники типа Гребенщикова такой самостоятельности не прощают.
Сложные отношения возникли у сталеваров третьей печи с остальными сталеварами цеха. Весь цех чем-то поступался для них. Печь избавляли от малейших задержек, пропускали вне очереди чугун, ковши, краны, отдавали лучшую шихту, весь кислород, который получал цех, расходовали на нее. В. фокусе внимания руководства завода, городских организаций и прессы находились только сталевары третьей печи. Было бы у них всех высокое мастерство, ранее установившаяся репутация, с этим положением мирились бы. Но таких было только двое. Что касается Мордовца и Сенина, то они ничем не проявили себя, пока печи не создали исключительные условия. У Мордовца, правда, за спиной десятилетний стаж, а вот Сенину не могли простить столь быстрого взлета — всего два года работает он на заводе и вообще не похож не то что на сталевара, просто на рабочего. Худенький, щуплый, тихий, даже женственный. И прозвище свое — «Есенин» он получил не столько за сходство фамилий, сколько за голубую грусть в глазах, пшеничные волосы и интеллигентность манер. Обычно сталевара легко узнают на печи по решительности, расторопности, по командным ноткам. Женя двигался не спеша, говорил негромко, держался незаметно. Именно его посторонние люди, — а на третью печь приходили многие, просили показать сталевара. Женя привык к этому и перестал обижаться. Но, покладистый и добродушный, он приходил в ярость, когда появлялись газетчики, — считал их главными виновниками своих бед. Хотя он никаких разговоров с ними не вел, ссылаясь на то, что он самый молодой, работает всего два года, а на печи есть люди старше его и заслуженнее, газетчики тем не менее писали о нем чаще, чем о ком-либо другом. Именно в нем, молодом пареньке со средним образованием, студенте вечернего института, видели они тип нового советского рабочего, символ слияния труда физического и умственного. И именно эти статьи вызывали к нему недружелюбное отношение не только сталеваров других печей, но даже его, третьей.
Особенно невзлюбил Сенина Серафим Гаврилович Рудаев. Ему, человеку энергичному и горячему, меланхолически спокойный Сенин был противопоказан.
— Знаем мы таких выскочек! — ярился он. — Кнопками управлять научились, а случись что на печи — ни черта ладу не дадут. Опыт — вот что главное в нашем деле.
И все-таки ни в совете, ни в помощи, ни в общении он Сенину не отказывал.
Обычно с рапорта сталевары уходили гурьбой. Обсуждали свои непростые сталеварские дела, со всеми тонкостями разбирали случившееся в цехе. Особую пищу для разговоров поставлял Гребенщиков. Он любил поупражняться в остроумии, помотать душу, прицепить какое-нибудь необычное прозвище. Это с его легкой, а вернее, тяжелой руки Сенин стал «Есениным», Пискарев — «недотыкомкой», Мордовец — «полуфабрикатом». Даже всеми уважаемого Серафима Гавриловича Гребенщиков под горячую руку назвал Херувимом Гавриловичем. Правда, другие себе этого не позволяли. Пришел бы Гребенщиков в цех со сложившимся коллективом, его быстро отучили бы от дурных замашек. А здесь ему было приволье. Пускала новую печь — и приходили новые люди, приходили по одному, с разных заводов. Они быстро растворялись среди старожилов и попадали под влияние установившейся традиции: начальнику все дозволено. В этом цехе не было руководства цеха. Был один руководитель, все остальные — подчиненные.
Долгое время Женя охотно уходил со сталеварами. И Пискарев и Серафим Гаврилович наперебой рассказывали ему разные истории, случавшиеся на их памяти, смешные и трагические, но особенно красочно расписывали они крупные аварии, которых перевидали на своем веку пропасть. А от кого узнаешь столько интересных подробностей о руководителях, в разное время возглавлявших завод, как не от бывалых людей?
И когда в день получки сталевары заворачивали в ресторан, разделял с ними компанию и Женя. Не потому, что его тянуло выпить. Хотелось лучше узнать своих собратьев по профессии и больше почерпнуть от них. Под влиянием услышанного — у него складывались свои представления о людях той ленинской когорты, ярчайшим представителем которой был Орджоникидзе, чуткий, памятливый, широкий, решительный. С этой высокой меркой он теперь подходил к руководителям, с которыми сталкивался, и мерка эта никому не была впору. Что-то от Серго было у Троилина, но только частичка — теплота и памятливость. А вот Гребенщиков — антипод Серго. На самом деле: почему любой рабочий мог запросто подойти к Серго, обратиться с любым вопросом, даже дать совет? А попробуй заговори запросто с Гребенщиковым. Что обусловливает такое различие в поведении, в отношении к нижестоящим? Может быть, возраст? Троилин почти на десять лет старше Гребенщикова, он общался с Орджоникидзе, получал от него предметные уроки отношения к людям. А может, все дело в характере? Но ведь характер — это тоже результат длительного воздействия многих, а не что-то заданное наперед при рождении. Так что же? Другое время воспитывало? Другая среда? Но и эта среда дала удивительных людей.
Серафим Гаврилович иногда повторялся. Раз пять слышал от него Женя, как приехал Серго на завод, вошел в мартеновский цех, а он весь выбелен, выметен, колонны заново покрашены. Улыбнулся Серго в усы, взял за пуговицу подвернувшегося рабочего, спрашивает: «Всегда в цехе так чисто?» Рабочий растерялся. Правду сказать— начальство подвести, а солгать паркому — совестно. И он ответил уклончиво, хотя и прозрачно: «Да было еще один раз так. К Первому мая». Рассмеялся Серго, посмотрел на директора критически, сказал снисходительно: «Это приятно, что меня встречают, как первомайский праздник». С тех пор за чистоту стали бороться, как за план.
— Вот где педагогика! — стремительно, как кнутовище, подняв палец, неизменно заключал Серафим Гаврилович. — А у нас в цехе… так твою растак или «недотыкомка».
Последнее время Сенину перестало доставлять удовольствие общество Серафима Гавриловича. Проглотив рюмку-другую, тот становился агрессивным, поддевал парня, посмеивался над ним. А однажды взял и выложил ему все, что просилось наружу. При всем честном народе так и сказал: