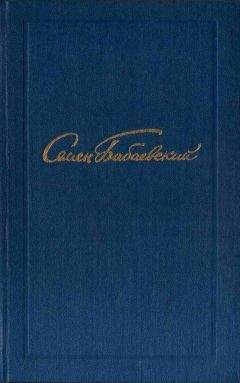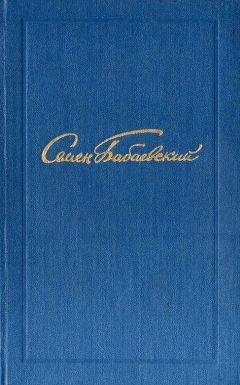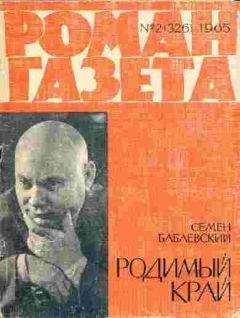— Меня, Никиша, не крыша беспокоит, а другое…
— Что именно? Женский секрет?
Евдокия Гордеевна присела к столу, к еде не притронулась, моложавое, всегда ласковое ее лицо вдруг помрачнело.
— Крыша, спасибо тебе, теперь у нас будет, да и мастера отыскать у нас на комплексе не трудно.
— А что трудно? Говорите. Что вас так встревожило?
— Катя, дочка моя… Как оно у вас, как-то непонятно… Не пойму, что и как промежду вами…
— А-а, вот вы о чем. Об этом, мамаша, тревожиться нечего, это дело наше, сугубо личное, как это говорится по-научному, интимное.
— Я не про то, не про интимное… Катя — она натурой доверчивая, ее только помани ласковым словом, и она пойдет хоть в пропасть. — Мать смотрела на Никиту полными слез глазами. — Через ту свою доверчивость она и так уже несчастная. Попался ей один, ласковый да говорливый, она, дурочка, и выскочила замуж, а счастья с ним у нее не было… Никиша, о тебе я ничего плохого не думаю… Но ить ты человек женатый, семейный… И через то я, как мать, прошу тебя…
— Мамаша, решительно ни о чем просить меня не надо. Вы же знаете, я всегда готов, чем только могу, подсобить вам. В воскресенье, как я уже сказал, приеду и починю вам крышу. — Никита вышел из-за стола, закурил папиросу, в окно посмотрел на свою машину. — А насчет Кати и вообще не волнуйтесь, дело между нами, как я уже пояснил, исключительно интимное, тайное, и оно не должно…
— Тайное — мне понятно, но ить я мать… А Катя, она доверчивая…
— Ну, мне пора в дорогу, — сказал Никита, приглаживая чуприну и натягивая картуз. — Спешу, как всегда… Ну что вы, мамаша, так опечалились?
— Может, Катю покликать?
— Не надо, она же на дежурстве. Да и я спешу. Передайте Кате мой привет и скажите, что в воскресенье я приеду.
Он даже обнял плакавшую Евдокию Гордеевну и твердыми шагами вышел из хаты. Грузовик отвалился от ворот и, круто развернувшись, покатил, поднимая высокий серый хвост пыли.
Два «Беларуся», как два гнедых иноходца, двигались ходко, словно бы наперегонки, по рядкам еще невысоких, в шесть листков, подсолнухов. Культиватор приласкался к земле, сошники пушили и пушили мягкий, податливый чернозем, на шершавые листочки подсолнухов оседала темноватая пыльца. На одном «иноходце» сидел Петро, задумчиво глядя на бежавшие впереди рядки, на другом — Иван. Разворачивались на дороге, культиватор приподнялся и, покачиваясь, заиграл на солнце начищенными до блеска сошниками. Солнце поднялось над темной гривой лесополосы, и по степи разлился тот особенный, ослепительный и теплый свет, какой бывает только ранним весенним утром, когда синеву чистого высокого неба уже сверлят жаворонки.
Развернувшись и не въезжая в рядки, Петро приглушил мотор своего трактора, махнул рукой ехавшему следом Ивану. Тот подъехал, поравнялся с Петром, отворачивая измученное тоской лицо.
— А меня батя послал в отряд, — сказал Петро. — Он думал, что ты не пригонишь «Беларусь».
— Почему он так думал? Не сказал?
— Ты же взбешенным бугаем выскочил от него и умчался.
— Ну и что? Дело-то свое я знаю.
— Послушай, Ваня, как поют жаворонки. — Моторы смолкли, и уже разлились на всю степь голоса этих старательных птах. Петро поднял голову, посмотрел в синеву неба, заулыбался. — Красиво поют!
— Ты еще интересуешься песнями жаворонков?
— А что? Страсть люблю, так и хочется лечь на траву, смотреть в небо и слушать… Музыка! — Петро протянул Ивану пачку сигарет, и братья задымили. — Ваня, что тебе говорил отец?
— А тебе?
— Мне советовал не покупать «Жигули».
— Как это — не покупать?
— Вот так…
— Чудак! «Жигули» — твоя премия, и надо быть дураком, чтобы отказаться от нее.
— Отец считает, что хватит с меня и «Ижевца».
— Так он считает. А ты?
— Я подумаю. К отцовским словам надо прислушиваться, он ничего плохого не посоветует. Да и спешить некуда, есть еще время подумать.
— А вот мне, Петро, приходится торопиться, и прислушиваться к советам отца я не хочу. — Иван бросил под колесо недокуренную сигарету, сердито сплюнул. — Он уже стар, ему не понять, что я люблю Валентину, что жить без нее не могу. — Он невесело усмехнулся. — Удивляюсь, у других отцы как отцы, им нет дела до детей, а наш лезет со своими советами, куда его не просят. Ведь не маленькие, можем обойтись и без нянек, в конце концов!
— Тебе тоже не надо ни горячиться, ни торопиться, — спокойно сказал Петро, и на его добродушном лице расцвела доверительная улыбка. — Батя наш, ты же знаешь, человек особенный, может, один такой на всю станицу.
— Какой же он, по-твоему?
— Справедливый, и нам, как мы есть его сыновья, необходимо это помнить, — с той же доброй улыбкой ответил Петро. — И ежели он что нам говорит, то это, Ваня, неспроста. Ему ведь тоже нелегко, когда мы, его сыновья, делаем не то, что нужно.
— Он-то сам знает, что нужно, а что не нужно?
— Знает, — уверенно ответил Петро. — Возьми Никиту. Почему к нему батя так строг? Потому, что Никита неправильно живет. Может батя терпеть такое безобразие? Не может… А тут еще и у тебя, Ваня, в жизни что-то не клеится…
— Что не клеится? Меня с Никитой не равняй!
— Я и не равняю. На тракторе ты молодец, батя это видит и в душе радуется. — Петро помолчал, раскуривая потухшую сигарету. — Но вот то, что у тебя с Валентиной…
— Что у меня с Валентиной? Договаривай!
— Не злись, Ваня, я же по-хорошему. Получается некрасиво, по станице ползет всякий брёх, а ты прилип к чужой жене…
— Не чужая она мне, понимаешь, Петро, не чужая!
— А по закону?
— Да что закон! Этот ее тип требует ребенка, делает он назло, а через это суд тянет с разводом.
— Стало быть, суд не находит причин.
— А наша любовь?
— Ваня, полюби девушку, к примеру, Нину, женись на ней, и жизнь твоя наладится.
— Эх, Петя, Петя, все у тебя так просто, что диву даешься. — Иван сокрушенно покачал головой. — Среди нас, Андроповых, ты уродился каким-то чересчур благополучным, и через то на свете тебе живется спокойно, хорошо. А вот я не живу, а мучаюсь. У тебя, Петя, не жизнь, а одно удовольствие, а у меня одни страдания. Ты чужую жену не любил и не знаешь, что это такое, а я люблю… Все у тебя есть, а у меня ничего нету. У тебя есть любимая жена, куча детишек, свой дом, свой мотоцикл, премия на внеочередную покупку «Жигулей». И с отцом ты умеешь ладить, а я не могу. В моей житухе кругом одни острые углы да ухабины.
— Сам в этом повинен.
— Да почему, черт возьми, сам? Почему?
— Зачем влез в чужую семью? Тебе что, мало девок в станице? Выбирай любую… Честно скажу: удивляюсь, как ты с ней снюхался. Она врач, ты тракторист…
— Ты это брось — снюхался. — Иван зло покосился на брата. — А вот о том, как полюбил ее, расскажу как-нибудь на досуге.
— Хоть бы была красавица писаная, а то так себе.
— Ее красота, верно, в глаза не бросается, потому как запрятана в душе. — Иван зажег спичку, прикурил новую сигарету. — Не будем, Петро, об этом. Есть к тебе важная просьба. Подсоби по-братски, выручи.
— В чем? Говори…
— Мне нужны два дня — суббота и воскресенье. С подсолнухами, видно, мы не управимся и до понедельника. Так ты скажи отцу, что поработаешь с ним один: субботу — за себя, а в воскресенье — за меня.
— Побежишь к ней?
— Улечу на мотоцикле… Ну, так что, поможешь?
— Куда ж тебя девать, чертяку влюбленного. — Петро наклонился к брату, хлопнул его по плечу и улыбнулся доверительно, широко. — Ну, тронули! А то, чего доброго, норму сегодня не выполним.
Гнедые красавцы, урча и распуская по подсолнухам чад, вошли в рядки, культиваторы жадно припали к земле, и старательно заработали сошники. А перед вечером, когда солнце, тронув горячим отблеском темневший за Кубанью лес, опускалось за горизонт, Иван, пригнувшись к рулю, что есть мочи гнал свой мотоцикл в станицу, спешил. «Удивляюсь, как ты с нею снюхался» — сквозь частые выстрелы мотора и свист ветра в ушах слышались обидные слова Петра. — «Как и батя, Петро праведник и чужую жизнь мерит на собственный аршин, да и рассуждает точь-в-точь как батя… Ничего я не скажу ему, как и что было. Все одно не поймет»…
Тот день, когда он впервые увидел Валентину, вспоминается Ивану часто и ярко, до щемящей боли в груди. Он пришел в поликлинику с завязанной платком шеей, с трудом, по-волчьи, поворачивая голову. Молоденькая врачиха встретила его сочувственной улыбкой, и он заметил, что глаза у нее были большие, темные и что из-под белой шапочки игриво выглядывали смолисто-черные завитушки.
— Что у вас, Иван Андронов?
— Чирей… Замучил, проклятый, — ответил Иван и подумал: «Откуда она знает мое имя и фамилию?»
Она сама сняла с его шеи платок и снова улыбнулась, теперь уже как своему давнему знакомому.