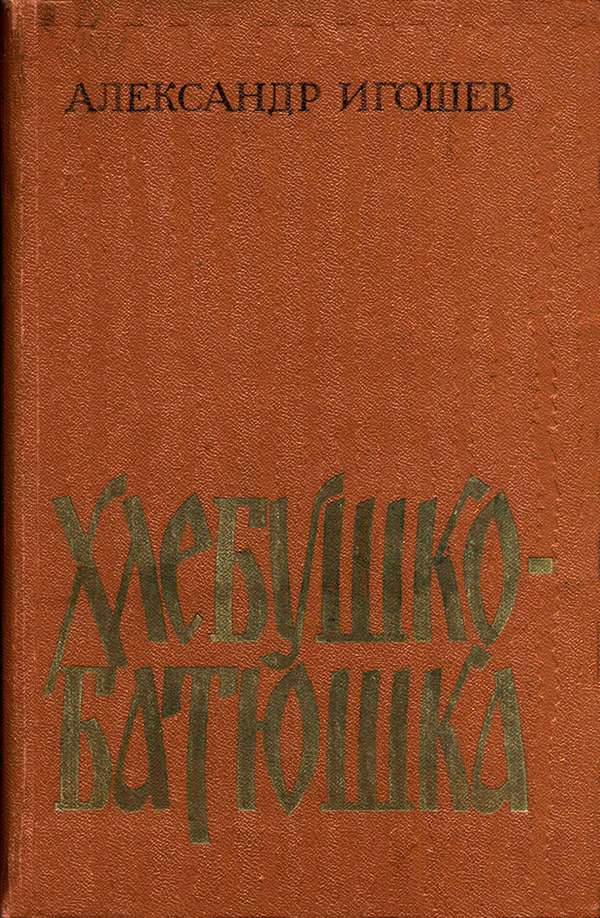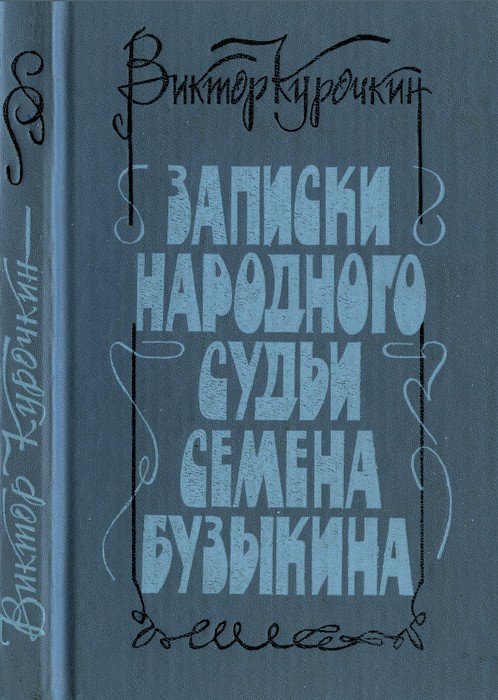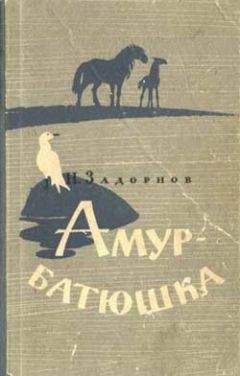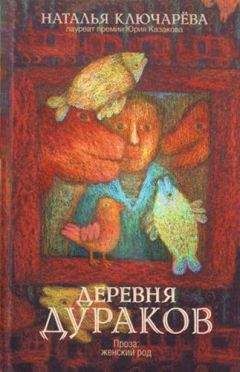у меня не выходит, то другое. — Он подвинулся, словно рядом мало было места, пригласил: — Садись, потолкуем. Видишь ли, отпустил бы я Важенкова со спокойной душой, если бы он сказал мне об этом заранее. Силком человека возле себя не удержишь. В семье доживают до серебряной свадьбы — и то расходятся. Я это понимаю. Но ведь он ничегошеньки мне не говорил. Как снег на голову.
— Значит, не любил вашего дела, — рассудительно вставил Виктор.
— Не любил? — Павел Лукич споткнулся на этом слове и задумался. — Не-ет, тут что-то не то, — не согласился он. — Важенков не меньше моего колотился на участке. Пшеница эта, — Павел Лукич кивнул на делянку, — и его скрутила. Видишь какая: не успела выйти в трубку, а уже выкинула номер. Смотри, одни стебли не походят на другие.
— Нет, не вижу, — пригляделся Виктор; проговорил он это с запинкой. Пригляделся еще и сказал увереннее: — Ничего не вижу.
— Ну, это потому, что ты не сидел над нею. Годика два походил бы сюда — увидел.
Павел Лукич говорил с горечью, но спокойно; не было в нем обычного раздраженья, когда не понимали его с первого слова.
— Полиплоидия — занятная штука. В клетке увеличивается число хромосом. На одну-две. Пшеница эта по многим признакам явный полиплоид. Но в том-то и закавыка, что она ведет себя не как обычный полиплоид, каждый год устраивает фокусы: либо дает стандартный колос, либо частью вырождается. Вот где они сидят у меня, ее капризы! — Павел Лукич ребром ладони постучал себе по жилистой шее.
«Вон оно что. Понятно», — подумал Виктор и вспомнил — как-то Павел Лукич жаловался ему: «Есть в нашей работе такой закон. Чем дальше мы заглядываем в малый мир клеток, хромосом и генов, тем он становится для нас шире и понятней. Но чем глубже мы его познаем, тем больше остается в нем непознанного». — «Где же выход?» — спросил тогда Виктор. «Где выход? — повторил Павел Лукич и сам же себе грустно ответил: — Разглядывать непознанное на острие скальпеля одно за другим, пока хватит жизни». — «А если не хватит?» — «Это-то меня и беспокоит». Павел Лукич поморгал глазами и отошел. Это было в прошлом году.
Виктор взглянул ему в лицо. Верно ли, что больше всего гнетут его мысли о невозможности конечного познания меняющихся явлений, а Важенков всего лишь предлог для раздражения? Так ли это? С первого взгляда не поймешь. По усталому лицу Павла Лукича ходили тени от колышущейся пшеницы, как от волн на реке.
— Ладно, хватит о Важенкове, — он хлопнул себя руками по коленям. Видно, все-таки постоянно думал сегодня о нем. — Что с возу упало, то пропало. Директор помешался у нас на травах, ему не до пшеницы. Но определят же кого-нибудь и мне в помощники. Вот тебя ему надо куда-то пристраивать. Может, тебя он ко мне и направит. — Виктор обидчиво отвернулся. — Ты сам-то чего хотел, когда вас распределяли?
— Чего я хочу и что смогу? — Вскинул кудлатую голову. — Начну с черновой, как вы говорите, работы, а там само дело укажет.
— Вот-вот-вот, — подхватил Павел Лукич. — Так и Важенков. Пришел после института, проработал три года и, как видишь… определился! Вон как ему дело указало. Я на вашем месте не рвался бы смолоду к науке, а пошел бы сначала в колхоз.
— Доучиваться? — насмешливо спросил Виктор; он понял, к чему клонит старик, и где-то под ложечкой у него опять заныло и засосало. Зачем недовольство Важенковым переносить на него? К тому же на работу к нему он еще не просился.
— А ты не смейся, — изломал кустистые брови Павел Лукич. — Специалист закаляется в деле. А вы пока — глина, сырье, необожженный материал. У вас ветер в голове. Хо-ороший сквознячок! Являетесь вы такие-то из института и не знаете, за что приняться.
— Что ж, будем делать, что заставят. Кому-то надо и на подхвате: «Подай, принеси…» — скривил губы Виктор.
— Все шутейничаешь?
— Что нам остается? — пожал он плечами. — Вы, старики, не принимаете нас всерьез.
— Ишь, чего захотел! Ты сначала, друг ситный, по-крестьянствуй, узнай, почем фунт лиха. Пойми землю, как понимает ее крестьянин. Да, да. Не смотри на меня такими глазами, я не оговорился — как крестьянин. Нынче пишут и умиляются: ах, растения чувствуют музыку, у них, видите ли, есть нервы. Только-только до этого дотумкались. А мужик испокон веку понимал землю и все, что растет на ней, как живое. — Он оборвал себя, уставился на Виктора немигающими глазами. — Ты хоть чуешь, что я тебе хочу втолковать?
— Где уж нам… — обиженно поднялся Виктор.
— Погоди. Ты зачем приходил-то? — сощурился Павел Лукич, поворачивая за ним голову. «Не понял он меня». Где-то в нем колыхнулась жалость к молодому человеку. — Мать посылала, что ли?
Виктор, стоя к нему спиной, кивнул, сутулясь, пошел с поля.
1
До перевода на Вязниковскую станцию Николай Иванович Лубенцов работал директором совхоза «Отрадненский»; защитив кандидатскую диссертацию, перешел в зональный институт заведующим сектором экономики.
Бывшего директора станции Огудаева, человека мягкого и медлительного, отставили от должности по его собственной просьбе. Он отлично знал научную часть, но у него не было, как он говорил, «руководящей жилки». В глубине души он сознавал, что наукой трудно руководить, — открытия не запланируешь! — что даже в колхозе, не то что в научном учреждении, год на год не приходится, и по этой причине многое прощал научным работникам. Огудаева отозвали обратно в институт, в сектор эфиромасличных культур. Этот плечистый гигант, с крупной головой, с круглыми серыми, добродушными глазами, как-то сразу затерялся в многолюдье коллектива, чему и был рад: теперь никто не мешал ему работать по избранной специальности.
Николай Иванович начал с того, что отказал нескольким сотрудникам в отпуске, пока они не составят отчета о проделанных летом опытах. Двух научных работников, специалистов по кукурузе, он попросил подать заявления об уходе.
— Нам ни к чему раздутые штаты по культуре, которая не играет доминирующей роли в нечерноземной полосе, — заявил он в беседе с ними. — Поезжайте на юг. Там ваши знания и опыт будут нужнее.
План научной работы был подвергнут корректировке. Некоторые темы из него исключили. Вместо них включили новые. Тут-то и обнаружилось пристрастие Николая Ивановича к травам. На годичном собрании научных работников он с жестковатинкой в глазах оглядел собравшихся, выдержал паузу и в наступившей вслед за тем тишине сказал:
— Вы посмотрите, до чего мы докатились: Россия — равнинная, луговая страна — осталась без