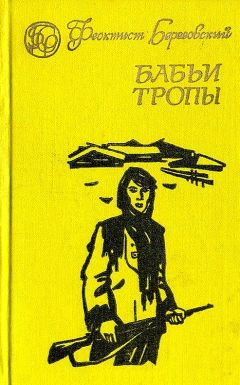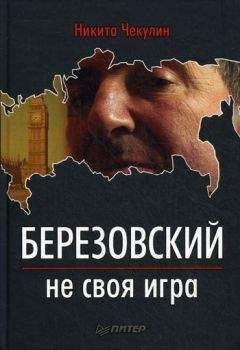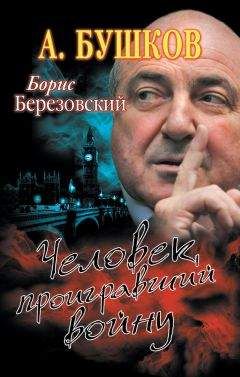Андрейка насмешливо приставал:
— Смотри, Паша, пей по второй, да не напивайся… Люби во второй, да не влюбляйся!
Павлушка ругался:
— Катись… к чертям!
— Мне что, — с хохотом кричал Андрейка. — Твоих кудрей жалко…
— Свои побереги! — огрызался Павлушка.
А сзади него быстро наступал с косой дед Степан и свое кричал в Павлушкину спину:
— Будет галманить!.. Чумовой!.. Пятки обрежу!..
Павлушка тревожно посматривал на зеленую волну, убегающую вслед за сутулым отцом, и на такую же волну, нагоняющую его вместе с дедовой сверкающей косой, торопливо взмахивал своей косой и чувствовал, что лицо и голова его горят от стыда и от тоски. Прислушивался к жвиканью брусков об косы и на соседних делянах, к смертельному хрипу падающей травы вокруг косцов и с нетерпением ждал, когда отец и дед Степан пойдут к ракитнику попить воды из берестяного лагушка, когда можно будет и ему освежиться водой: потом ждал конца работы, думая, что к вечеру все обернется по-иному, пройдет туман в голове и тоска в груди.
А вечером, после ужина, лишь только навис над лугами темный бархат надвигающейся ночи, потянуло Павлушку к костру, который полыхал сегодня на ермиловской деляне, близ черной стены леса, наступающего с запада на луга.
Но не пришлось Павлушке дойти до костра.
Между копен Маринку повстречал.
И проходил с нею по лугам чуть не до эари.
Повторилось вчерашнее.
Еще через день случилось то же самое.
Так и повисла Маринка хомутом на Павлушкиной шее. А Параська по-прежнему занозой торчала в груди.
Но недолго терзался в раздумьях Павлушка. С отчаянием махнул рукой на Параську. И потонул в Маринкиных ласковых объятиях, повторяя про себя:
— Что будет — то и будь…
В субботу вечером потянулись на телегах косари с бабами и с ребятишками к деревне в банях попариться.
На лугах почти одни девки да парни остались.
Когда совсем стемнело, собрались парни и девки недалеко от речки, близ ширяевских покосов. Натаскали хвороста, костер развели и картошки притащили. Попробовали песни заводить под Андрейкину гармонь. Но плохо пелись сегодня песни. Что-то вяло запевала Параська. А парни больше с картошкой около костра возились — запекали ее в золе, потчевали девок и кричали:
— Худо, девки, поете…
— Ничего не выходит у вас…
— Мы вам и картошки не дадим сегодня!
Девки кричали Параське:
— Запевай, Парася!..
Параська тихо сказала Андрейке:
— Играй «Разбедным я бедна…»
Андрейка заиграл.
А Параська дрогнувшим голосом запела:
Раз-бед-ны-ым я бедна-а.
Плохо я оде-ета-а…
Девки подхватили:
Ни-кто за-амуж меня-а
Не берет за э-это-о…
Тоскливо продолжала Параська:
Я о две-на-адцати ле-ет
По лю дям ходи-ила-а…
Так же тоскливо и вяло пели девки:
Где ка-ча-ала детей-ей,
Где коров до-и-ила-а…
Одиноко сидевшая Параська изредка посматривала на Павлушку, около которого сидела Маринка Валежникова, и уже с надрывом затягивала:
Есть у пти-ицы гнездо-о,
У волчи-ицы де-ети-и…
И опять вяло подпевали девки:
У-у ме-ня-а, сиро-ты-ы,
Нико-го-о на све-е-те…
Не нравилась девкам эта тоскливая песня. Чувствовала и Параська, что не нужна ее подругам такая песня. Счастливы они и веселы; нет им никакого дела до ее горя.
Оборвалась песня почти на половине.
Неожиданно из черной тьмы вынырнул и, незаметно для молодежи, тихо подошел к костру Степан Иваныч Ширяев — в белой рубахе и в белых портах, с трубкой в зубах, торчавшей над белой и длинной бородой.
Надоело деду берегом реки ходить да тяжелые думы передумывать; вот и решил тоску свою около молодежи поразвеять. Подошел к костру и крикнул насмешливо:
— Эх, вы… стрекулисты! И петь-то не умеете…
Обрадовались ребята приходу деда Степана. Быстро повскакали на ноги, заговорили наперебой:
— Дедушка Степан!
— Степан Иваныч!
— Ну-ка, подсаживайся к нам!
— Затяни-ка, дедушка, свою…
— Поучи нас, Степан Иваныч!
Внучонок Павлушка пристал:
— Спой, деда!.. Ну, что тебе?.. Спой!
Девки затормошили деда за рубаху:
— Спой, дедушка… мы тебя расцелуем!
Посмотрел дед в черную мглу, в ту сторону, где бабка Настасья у потухающего курева посуду перемывала, и, посмеиваясь, шагнул к костру.
— Ишь вы какие прыткие, — сказал он, поблескивая лукавыми глазами и подсаживаясь в круг с молодежью. — Она вам, старуха-то моя, расцелует… ой-ой-ой!.. Знаю: такого красавчика, как я, всякой девке завидно поцеловать…
— Ха-ха-ха! — загоготали вокруг. — Ха-ха-ха!..
Дед Степан подвинулся поближе к костру. Присаживаясь на луговую кочку и взмахивая трубкой, весело пошутил:
— А ну-ка, сядем на кочок, закурим табачок, божью травку, христов корешок…
Вокруг костра опять раздался взрыв хохота.
А дед Степан уже нахмурился. Пососав потухшую трубку, положил ее на траву около себя. Погладил рукой блестевшую от огня лысину, потом провел рукой по бороде, прокашлялся и сказал, поглядывая на Андрейку:
— Ужо слушайте… спою нето… ежели Андрейка подыграется ко мне на своей музыке…
Посмеиваясь, Андрей ответил:
— Подыграюсь, дедушка. Говори, какую песню будешь петь? Я ведь почти все твои песни знаю.
— Про отцовский дом сыграешь? — спросил дед Степан.
— Сыграю.
И Андрейка сразу же стал подбирать мелодию песни.
А затем под гармонь запел высоким и тоскливым голосом дед Степан:
Отцовский до-ом спокинул я-а,
Траво-ой он за-ара-сте-от.
Собачка ве-ер-ная мо-я-а-а
Заво-ет у во-ро-от…
Голос у деда Степана дребезжал, порой срывался, но под красивые рулады двухрядки он ловко перехватывал срывы и забирал все выше и выше:
Не быть мне в то-ой стра-не родно-ой,
В ко-то-рой я-а-а ро-жде-он,
А жить мне в то-ой стра-не чу-жо-ой,
В ко-то-рую о-о-суж-де-он.
Слушали парни и девки тоскливую песню, затаив дыхание; подбрасывали в костер сухую траву да зеленые еловые сучья и чувствовали, что тоска дедовой песни передается и им.
А дед Степан со стоном выводил высоким голосом:
Тер-плю муче-е-нья без ви-и-ны-ы,
На-прас-но о-о-суж-де-он;
Судь-ба нес-ча-аст-ная мо-я-а
К раз-лу-ке при-и-ве-ла-а…
Оборвался дребезжащий старческий голос, и дед Степан сказал полушутя, полусерьезно:
— Ну, ладно… хватит… Дальше слова позабыл…
Молодежь вокруг костра молчала. Парни ворошили палочками уголья и подбрасывали в костер свежие картошки, а девки сидели с затуманенными глазами. Маринка Валежникова по-прежнему сидела близ Павлушки. Дуняшка Комарова забралась под полу серого армяка Еремки Козлова, а Секлеша Пупкова прикрылась полой солдатской шинели Андрейки Рябцова. Другие девки тоже льнули каждая к своему миленку. Только Параська, одиноко сидела в стороне, глотала слезы и украдкой бросала ревнивые взгляды в сторону Павлушки и Маринки. Павлушка заметил ее взгляды и резким движением отодвинулся от Маринки, делая вид, будто рассматривает Андрейкину гармонь.
Помолчал дед Степан. Посмотрел в ночную темень, в которой звенели кузнечики, крякали коростели — точно дергали ржавую проволоку, и, попросив Андрейку сыграть любимую песню, снова запел:
Сне-жки бе-лы-е, пу-ши-ы-сты-ы
По-кры-ва-ли все по-ля-а-а,
Од-но по-ле не по-кры-ы-то-о,
По-ле ба-тюш-ки мо-во-о-о.
Передохнув, дед Степан продолжал:
В э-то-м по-ле есть ку-сто-оче-ек,
О-ди-не-ше-нек сто-и-ит.
Он и сох-нет, он и вя-а-не-т,
И лис-точ-ков на нем не-е-ет…
Казалось, что не тонкий голос деда Степана стонет в рассказывает про горе и тоску человечью, а будто стонет все кругом: стонет темная ночь, запахом весенних трав пропитанная; стонет лес, черный стеной в стороне, за рекой, притаившийся; стонут кузнечики, неумолчным стрекотом наполнявшие ночную тьму, стонет опрокинутый над уснувшей землей черный полог ночи, расшитый трепещущими звездами.
Пригорюнилась молодежь вокруг пылающего и потрескивающего костра. Никто, кроме Параськи, не заметил, как поднялись Маринка с Павлушкой и быстро пошли к реке. Охваченная ревностью Параська вздрогнула и хотела тоже вскочить на ноги и броситься вслед за ними, чтобы вцепиться в волосы своей разлучнице. Но гордая была Параська. Сжала сердце в груди. Пристыла к земле. Закрыла глаза, замерла от горя.