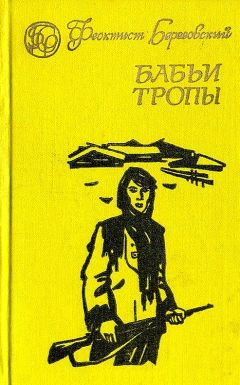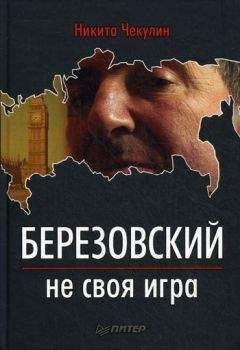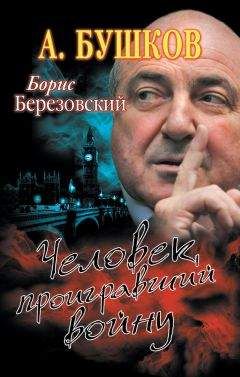Пригорюнилась молодежь вокруг пылающего и потрескивающего костра. Никто, кроме Параськи, не заметил, как поднялись Маринка с Павлушкой и быстро пошли к реке. Охваченная ревностью Параська вздрогнула и хотела тоже вскочить на ноги и броситься вслед за ними, чтобы вцепиться в волосы своей разлучнице. Но гордая была Параська. Сжала сердце в груди. Пристыла к земле. Закрыла глаза, замерла от горя.
А Маринка с Павлушкой потонули во тьме.
Наконец умолк и голос деда Степана.
Андрейка Рябцов спросил:
— Что это, дедушка Степан… сам ты веселый, а песни поешь жалостливые?
— Песни-то? — переспросил дед Степан. — Что поделаешь, сынок… Не я их складывал! Про судьбу человечью эти песни… Тяжелая была жизнь у народа… потому и песни такие складывали люди… Вроде сами себя жалели… Понял?
Дед Степан тряхнул бородой.
— А я веселый!.. Видите, звероловы-то с Авдеем Максимычем какую шутку надо мной выкинули?.. А мне что? Ужо помирать стану… приходите… спляшу напоследях!..
Опять засмеялись вокруг костра:
— Ай, дедушка Степан!
— С тобой не заскучаешь…
— Ну-ка, спой веселенькую… а?
Прокашлялся дед Степан. Окинул большой круг ребят торжествующим взглядом. Сказал Андрейке:
— Играй — «По горам, горам высоким…»
И снова зазвенел его голос над покрытыми тьмой лугами:
По го-рам, го-рам вы-со-ким.
По лу-гам ши-ро-ки-и-им
Вы-ра-ста-али цве-то-очки ла-зо-о-ре-вы-е-е…
Пел дед Степан под гармонь про лазоревые цветочки, про ленту алую, про любовь весеннюю да про ночку темную, а парни и девки ближе и крепче прижималась друг к другу, при свете костра переглядывались затуманенными глазами и посмеивались пьяными улыбками.
Но не одни они слушали деда Степана.
Там, поближе к реке, за чернеющими в тьме копнами сена, у потухающего курева, забеленного седым пеплом, сидела бабка Настасья.
Давно перемыта была и сложена в шалаше посуда. Мозжили и просились на покой старые кости. Но не ложилась спать бабка Настасья. Сидела, сгорбившись, около тлеющего седого пепла, в платочке, торчавшем клином над головой: прислушивалась к дребезжавшему голосу чудаковатого мужа, к шуму и хохоту девичьему и думала.
Перед глазами проплывали вереницы картины далекого прошлого.
Вот точно такой же сенокос был и такая же ночь, темная и удушливая. Молодо и призывно звенела вот эта же песня: «По горам, горам высоким; по лугам широким…», и сам певун был тогда молодой, курчавый, голубоглазый, розовощекий и шустрый. А рядом с ним всплывали в памяти: рыжий и неуклюжий Филат, мор на деревне, бесплодное богомолье, долгая жизнь в Белокудрине… И вот уже незаметно подкралась старость. Скоро придет и смерть. Перед глазами четко встали: кладбище белокудринское, около сосенки сырая и желтая глина, горой наваленная, а рядом — такая же сырая, желтая и глубокая могила.
Уставилась бабка Настасья в открытую могилу. Сердце перестало биться в груди. С тоской додумывала свои думы:
«За что жизнь прожила?.. Длинную, натужную бабью жизнь? Вот девки… Смех их веселый разливается сейчас над лугами… Но скоро отсмеются. Выйдут замуж… будут рожать детей… переносить побои от мужиков… Вместе с мужиками будут терпеть издевку от богатеев да от царского начальства. И так же, измученные, высушенные, сойдут в могилу… Вот Павлушка и Параська… Что ждет бесприданницу — Параську?.. Горе и слезы».
Обидно бабке Настасье за внучонка озорного. Больно за Параську. Тоска и боль нестерпимо давят старую грудь бабки Настасьи, горький клубок подкатывается к горлу. Кажется бабке Настасье, что все горе и все слезы миллионов деревенских баб подкатились к ее горлу и готовы захлестнуть, задушить ее. И хочется бабке Настасье крикнуть в эту темную и удушливую ночь:
«За что?.. Где конец?..»
Но молчит ночь. Молчат уснувшие луга. Молчит притаившийся за рекою урман. Где-то неподалеку кони хрумкают траву. Под освежающим дыханием теплого предутреннего ветерка изредка вспыхивает и переливается золотом раскаленный пепел потухающего курева.
Не заметила в думах своих скорбных Настасья Петровна, что давно оборвалась песня старика, заглохли звуки гармони, затихли голоса девок и парней; притаилась ночная тьма, слышен чей-то другой голос, надсадный и торопливый, похожий на голос Афони-пастуха.
Вдруг черная тишина разорвалась звонкими голосами:
— Ур-ра-а!
Оторвала глаза бабка Настасья от серого пепла. Опираясь на клюшку, поднялась на ноги.
Там, за копнами, у пылающего костра, мелькали и суетились черные тени; о чем-то шумели и снова кричали «ура».
Стояла бабка Настасья, смотрела на мелькающих вокруг костра людей и думала: «Что это с ними?.. Сбеленились ребята…»
Откуда-то вынырнул внучонок Павлушка с Маринкой Валежниковой.
— Что такое, бабуня? — запыхавшись, спросил Павлушка. — Чего они кричат?
— Почем я знаю… Думала и вы — там, у костра…
А парни и девки да человек пять мужиков толпой шумной валили уже к ширяевскому шалашу. Впереди всех ехал на чьей-то белой и сухопарой лошади Афоня и кричал:
— Чей сенокос? Эй, кто там… вставайте!
За ним суетливо бежал дед Степан и тоже кричал:
— Наш это, Афоня… наш сенокос… ширяевский!
Из-за шума Афоня не слышал старика.
Свое орал:
— Вставайте!.. Радость привез я вам!.. Царя с престола убрали, мать честна!.. Слабода всем дадена!.. Гости из волости приехали!.. Всех велено в деревню звать!.. К утру чтобы все на сходе были…
Толпа окружила бабку Настасью.
Мужики и бабы наперебой кричали:
— Настасья Петровна…
— Бабушка!..
— Где Демьян-то?..
— Убрали царя!..
— Сла-бо-да-а-а!
И опять в черной, притаившейся тьме, над рекой и над лугами загремело:
— Ур-ра-а-а!.. Ур-ра-а!..
Высоко поднялось и нещадно пылало солнце над урманом густым и черным, над лугами зелеными, над серой чешуей речушки, извивающейся по луговине, и над потемневшими крышами деревеньки Белокудрино.
А на выгоне, близ поскотины, над крылечком мельницы-ветрянки в прозрачном голубом воздухе струился алой кровью небольшой красный флаг.
Из дворов выскакивали ребятишки и с криком бежали к выгону:
— Гавря! Айда к мельнице!
— А что там?
— Слабода!
— Михалка, смотри, что на мельнице-то!
— Айда туда!
— Пошли-и!..
— Ихты-ы-ы!..
Потянулась к мельнице кучками молодежь.
Парни смеялись:
— Слабода, девки!
— Теперь целуйся, сколь хочешь…
Девки отвечали:
— Варначье, язви вас!..
— Охальники!..
Вперемежку, группами туда же шли мужики и бабы; за ними, опираясь на суковые палки, ковыляли старики и старухи. Смотрели из-под руки на красный флаг и крестились:
— Слава тебе, господи, дождались…
— Полыхает-то как!.. Флаг-то…
— Спаси, пресвятая богородица, и помилуй…
Павлушка Ширяев шел улицей о бабкой Настасьей и торопил ее:
— Скорее, бабуня, опоздаем!.. Смотри, народу-то у мельницы сколько…
— Не опоздаем, — отвечала бабка. — Сказывают, не проходили еще туда гости-то…
— Дождались-таки, бабуня! — восторженно говорил Павлушка. — Сковырнули царя!.. К чертовой матери!.. Помнишь, бабуня, говорили-то мы с тобой… По-нашему вышло!..
Бабка Настасья шла, опираясь на клюшку, смотрела из-под руки на полыхающий красный флаг у мельницы и вздыхала:
— Охо-хо, Павлушенька… Царя-то сковырнули… а, говорят, из городу господин приехал… Охо-хо… чует мое сердце — не будет добра…
Некоторые мужики шли к выгону и, осторожно озираясь, шептались!
— За податями приехали…
— Неуж?
— С места не сойти!..
А вокруг мельницы собиралась и быстро ширилась пестрая деревенская толпа. Бабы и старухи кучками жались друг к другу, держась поодаль от мужиков. Мужики и парни сгрудились около ступенек и под дырявыми крыльями мельницы. Одиноко серели солдатские гимнастерки и шинельки, папахи-вязанки и фуражки. Вокруг толпы бегали и визжали ребятишки.
В середине толпы похаживал, качаясь на ногах, подвыпивший старик Лыков и, блаженно улыбаясь, говорил то одному, то другому мужику:
— Сына-то моего, Фомушку… убили на войне, а мне слабода дадена, братаны, а?.. Слабода, а? Сына-то моего, Фомушку…
Над Лыковым степенно посмеивались.
Близ сходней, потрясая своей реденькой, соломенно-желтой бородкой, размахивал рукавами шинельки и выкрикивал петухом Сеня Семиколенный:
— Дождались, Якуня-Ваня!.. Заживем теперь, Якуня-Ваня!
А под крыльями мельницы ораторствовал кудлатый Афоня-пастух.