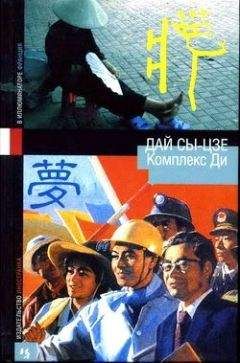Собачка бегает туда-сюда: то подбежит к калитке и посмотрит на меня, то подбежит к крыльцу и смотрит на нее, даже на задние лапки станет — так ей хочется понять, что тут происходит? Но что может понять собачка, если мы сами ничего не понимаем? Кроме того, она ведь животное, домашнее животное, она привыкла понимать людей, привыкла понимать, а тут не понимает, вот и бегает туда-сюда. И даже затявкала от непонимания. Вот как, даже затявкала, и с таким вопросительным выражением затявкала: что такое? почему? Да делайте что-нибудь!..
— Шарик, — зову я, — Шарик!..
Собачка тут же подскочила и смотрит, а я слышу, как на крыльце раздается тихий смех. И собачка даже подпрыгнула, повернулась и бросилась к крыльцу, встала свечкой, изображая счастье и восторг. Ну и Шарик! И я тоже не могу удержать восхищенной улыбки. Я тоже смеюсь. В самом деле, очень смешно! А собачка просто обалдела от этих человеческих звуков; прыгает, вертится, повизгивает, словно ее щекочут.
— Я на одну минутку, — говорю я и несмело отворяю калитку. — Только на одну…
И она тоже сходит с крылечка и приближается сюда, ко мне.
— Я пришел…
— Вас выписали? Но еще рано, еще…
— Все заросло, — беззаботно говорю я. — Все как на собаке…
Какое-то мгновение мы смотрим друг другу в глаза. Только одно мгновение, а потом опять смотрим на Шарика. Хорошая собачка…
— Какой же породы ваш Шарик? Мне кажется, он весьма благородных кровей, выходец из каких-нибудь английских овчарок, или немецких болонок, или как там…
Она смеется.
— Конечно, я не разбираюсь в собаках…
— Что-то хотела вам сказать, — говорит Ирина Анатольевна. — Никак не вспомню…
— Значит, что-нибудь необязательное, какое-нибудь медицинское предписание: принимать по одной таблетке три раза в день…
— Нет, что-то важное, правда.
Важное? Я молчу, может быть, она вспомнит. Важное — это интересно.
— Забыла!..
— Подарите мне что-нибудь, а? — говорю я. — Ну что-нибудь такое, вот хотя бы этот крючок от вашей калитки, ведь он все равно едва держится. Или… — Я озираюсь кругом, словно могу в темноте увидеть что-то такое, что она может подарить мне на память, например, вот ту звезду, которая поблескивает далеко вверху, среди листьев какого-то дерева. Но кроме листьев на дереве, кажется, есть какие-то плоды.
— Это дикая яблоня, — говорит Ирина Анатольевна. — Выросла сама по себе, папа все время хотел привить что-нибудь, да так и не привил.
— Интересно, — говорю я первое попавшееся слово. — Вот и хорошо, я возьму их на память, можно?
Она смеется. Такой приятный, такой ласковый смех!..
— Очень уж они кислые, вы их не станете есть!
— А я не для еды, а для семян. Я посажу семечки из этих яблок где-нибудь возле своего дома, посажу и забуду, а потом этак лет через десять сам по себе появится сад! Лесные яблони красиво цветут.
— Да, только в них и красоты, что цветут пышно, это верно.
— И эта?
— И эта…
И опять оборвалась ниточка, и мы молчим. Досадно. На самого себя досадно. Что же делать?
— Никак не вспомнили то самое важное?
Какая-то странная улыбка дрожит на ее губах.
Я беру ее руку. Рука холодная и послушная. Мне легко держать такую доверчивую руку.
— Спасибо… — бормочу я, а сам даже и не понимаю значения этого «спасибо». Но тут слышу, как рука ее ожила, пальцы стали собираться в кулачок, в такой чуждый кулачок. — Спасибо, вы были так добры ко мне…
Что я говорю? Ведь совсем не то я хочу сказать! Совсем не то!.. Но уж поздно!
— До свидания, — слышу я дрожащий шепот. — Мне пора…
Она уходит. Я даже не слышу ее шагов. Но ведь мне тоже надо сказать ей что-то важное, но я никак не могу вспомнить, что именно. Ах, никак не могу вспомнить!.. А ее уже нет. Я вижу, как дверь закрывается. Осталась совсем маленькая полоска света, совсем маленькая. Да, что же я хочу сказать? Ведь еще не поздно!..
Но дверь закрылась плотно — полоска света погасла. Все. Никого нет. Только Шарик сидит на дорожке и смотрит на меня настороженно. Странно, у меня такое впечатление, будто никого не было, будто я не держал в своих руках тонкую и доверчивую руку… В самом деле, как будто мне все это привиделось.
Я затворяю за собой калитку и иду прочь — мимо колодца, мимо закрытого магазина, потом иду обочиной дороги, поворачиваю на знакомую тропу и через парк, который сейчас страшно и грозно шумит под ветром, тороплюсь куда-то. И только когда вижу яркие, необыкновенно яркие огни в окнах санатория, я вдруг понимаю, что мне некуда торопиться.
В кармане у меня какие-то гладкие и твердые шарики, как будто орехи, но нет — не орехи. Что же это такое? Ах, это же яблоки, те самые лесные яблоки!.. Они до того тверды, что просто и не верится, что это яблоки. Может быть, это волшебные молодильные яблоки или еще какие-нибудь?
Ничего, кроме нестерпимой горечи, я не чувствую в них. Но лесные яблони красиво цветут.
«Да, только в них и красоты…» — вспоминается мне, и голос слышится так ясно, что я оглядываюсь.
Но, конечно, никого нет, никого, и только черные деревья шумят под ветром, да носит с жестким шорохом вороха палых листьев.
Мои счастливые дни
Повесть
На улице уже стояла непроглядная темень, и даже когда глаза пообвыкли, я едва различал ступеньки крыльца. Но в небе было густо от звезд, и оно казалось совсем близким, особенно искрящаяся полоса Млечного Пути — словно что-то земное, здешнее, как запах яблок, которым, кажется, дышит не только вся уснувшая деревня, но и весь этот притихший, успокоившийся на ночь и очарованный мир.
Впрочем, тишины-то особой и нет пока возле правления: гудят машины, в свете фар промелькивают люди, перекликаются, собираясь в свои компании:
— Эй, Кесьтук! Где ты там? Каждый раз тебя ждать!..
Кесьтук? Нет, я не знаю его по имени, хотя, может быть, и не раз видел. И кто его кличет, тоже не могу узнать по голосу, хотя — ясное дело — это один из тех, кто сидел только что на собрании и поднимал за меня руку — ведь проголосовали единогласно, и Бардасов тут же хлопал меня по плечу, как друг, и громко сказал:
— Поздравляю, комиссар! — И улыбался такой широкой светлой улыбкой, что я даже смутился, хотя, честно сказать, это был первый миг, когда я перестал сомневаться в своем согласии работать в колхозе. Да и это — комиссар…
— Эй, Кесьтук, мы поехали, догоняй!..
— Федор Петрович! Где Федор Петрович?!
Может, это зовут и не того Федора Петровича, не ставшего в этот вечер секретарем парткома, как это вроде бы намечалось, может, есть в колхозе другой Федор Петрович. Но вот уж кого мне было жалко на собрании, так это Федора Петровича, когда председатель Бардасов прямо так во всеуслышание заявил:
— Ты языком только работаешь, Федор Петрович, а нам в колхозе нужен настоящий работник. — И точно заслонку открыл — критика так и хлынула на бедного Федора Петровича: и что за двумя зайцами гонится, работая учителем в школе, и за секретаря парткома получает, что в бригадах не бывает никогда… А под конец выскочил маленький мужичок, худой, как цыпленок, в засаленном галстучке, и визгливым тонким голоском выкрикнул:
— Я всю правду скажу, всю правду! — И мне показалось, что сейчас он выдаст такое обвинение, что все прочие покажутся детским лепетом. Однако этот маленький мужичок, фамилия которого была, как ни странно, Карликов, только и высказал: — Не работал он с коммунистами по-путному! Вот!.. И все, — и, страшно сверкнув глазами на Федора Петровича, опустился на место, — словно в яму провалился. Но стоило закончиться собранию, как этот Карликов оказался за спиной Бардасова и поддакивал ему, и мне сладко улыбался маленьким молодым личиком. Но Бардасов не обращал на него никакого внимания и даже не посмотрел на него, когда сказал:
— Эй, Сидор, проводи Александра Васильевича на ночлег к Графу да скажи: пусть ужин сготовит.
— Обязательно, Яков Иванович, обязательно! — засуетился Карликов и схватил меня за руку.
— Да окажи, — добавил Бардасов, — через полчасика я сам приду.
А я искал глазами Федора Петровича. Зачем? — и сам не знаю. Я, конечно, не был перед ним виноват, и если он умный человек, он это поймет сам. И утешения ему вряд ли нужны… Но Карликов не отпускал меня и тянул вон из парткома — ведь он получил приказ председателя проводить меня на ночлег. И вот я иду по тропинке возле палисадников. Корни ветел избугри-ли ее, и я спотыкаюсь, а Карликов впереди шагает так ловко и быстро, что я отстаю. Я уже не смотрю в небо на звезды, нет, не смотрю, потому что до меня тут только доходит во всей ясности, что произошло не одно мое избрание в секретари парткома колхоза, но нечто большее — незаметно и неслышно в этот вечер рухнуло все мое так прекрасно выстроенное в мечтах будущее. Эх, голова! Не голова ты у меня, а глиняный горшок!.. А как же Надя? Ведь она ждет совсем другого известия от меня, ведь не кто-нибудь, а я сам месяц тому назад показывал ей строящийся в нашем городке восьмиквартирный дом, в котором мне обещал квартиру сам Геннадий Владимирович: «Одну квартиру из восьми мы строим специально для Сандора Васильевича». Но тогда я был инструктором райкома партии, а теперь я новый секретарь парткома колхоза и иду на ночлег к какому-то Графу. А Надя ничего этого не знает. Она приготовилась к другому: жить в том самом доме, который скоро будут заселять, и работать в средней школе учителем биологии… Впрочем, иной жизни я и сам для себя не представлял, и хоть в будущее свое далеко не заглядывал, оно казалось мне вполне определенным, тем более что из райкомовских инструкторов я был самым молодым. По этому случаю Геннадий Владимирович еще и шутил: «Сандор Васильевич у нас самый молодой, еще и не женат, так что ему не страшны никакие расстояния», а раз так, то и выделили мне самые дальние колхозы. Не страшны-то не страшны… и однажды прошлой осенью я протопал до «Звезды» почти семь часов. А вот сюда, в Кабыр, я попал совершенно случайно — получил в качестве дополнительной нагрузки на время. Правда, в «Серп» я почти и не заглядывал, всего-то и провел два собрания… Комиссар! Как-то на все эти перемены взглянет Надя? Эх, голова!..