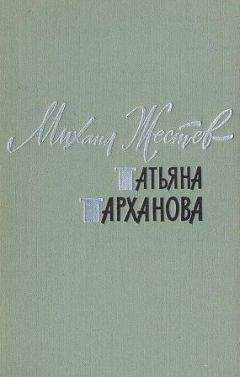Но Василий ответил спокойно и решительно:
— Нет, батя, хоть я и мечтал о земле, а теперь не вернусь к ней. Ну какой из меня хлебороб?
— Тебе не землю пахать... Ты механик!
— Душа не лежит
— Значит, в другой город задумал ехать?
— Обратно в Хибины!
— В ссылку?
— Там город — на три Глинска хватит…
— Солнца, говорят, полгода нет.
— А человеку солнце там, где он свой труд вложил. Ты пойми, батя, мы с Сандой строили город тот.
Дом был продан. Василий и Санда готовились к отъезду. Татьяне снова предстояла разлука с отцом и, может быть, на много лет. А хотела бы она поехать вместе с ним? Нет. И не было ощущения, что ее покидает человек близкий ей, родной. Ведь, собственно говоря, настоящие дочерние чувства у нее были лишь к деду Игнату. Приближающаяся разлука с отцом ее не печалила, но в то же время как-то изменила ее отношение к нему. Ведь до сих пор как она судила о нем? Сошелся с Сандой, забыл семью. Ее возмущало, что отец забыл о ней, о родной дочери. Но понимала ли она сама его трудную судьбу? Как же она могла по отдельным поступкам судить о нем? Не он бросил ее, а она из чувства эгоизма ушла от него, не поняв ни его трудной судьбы, ни его любви к Санде и забыв о том, что он, прошедший через испытания добровольной ссылки и войны, имеет право на радость и счастье в тысячу раз больше, чем она. Только теперь, когда жизнь снова разлучала их, у Татьяны было такое чувство, что она наконец-то нашла отца. Разве можно было судить о людях, думая лишь о том, чего они не сделали для тебя? А что ты сделала для них?
Татьяна смотрела в окно и мысленно провожала отца через мстинский мост. Мост был похож на огромное, наполовину погруженное в воду колесо, и ей чудилось, что за ним простерлась бесконечная хибинская тундра.
К окну подошел дед Игнат.
— Хороший у тебя отец, Танюшка.
— Знаю, деда.
— И я знаю, да что толку, — вздохнул Игнат. — Жизнь сколько лет его обижала, да мы еще подбавили.
— Не говори так, деда. Я все поняла.
— Жить-то дома будешь или по подружкам?
— Никуда больше не пойду.
— Да и жить в этом доме недолго. До ноябрьских праздников. Ну, а как с Федором порешили? Когда свадьба-то?
— Не знаю, деда.
— Если жених он твой, так должны прийти ко мне, обговорить, что и как. Может, узнает, дом продан — раздумает?
— Смеешься, деда.
— А чего же делать, коли плакать не велят? — И, слегка дотронувшись до ее плеча, осторожно сказал: — Помнишь, мы с тобой друзьями были?
— И сейчас мы друзья, деда.
— Нет уж промеж нас такой откровенности, как бывало.
— Ты молчишь, и я молчу.
— Тебя даже спросить боязно, того и гляди — обидишься. А Тархановых обидеть — избави бог.
— Федору я верю.
— А любишь ли?
— Верю, — повторила Татьяна. — Он сильный.
— Э, да тебя кто-то обидел, Танюшка.
— Да, обидели, — ожесточенно сказала Татьяна, подумав о биологическом, в который ей не удалось поступить, о Сергее, которого она так любила. Жизнь ее обидела, загнала на завод, а там даже не защитила от Верки Князевой.
— Ты все-таки не забывай, что у тебя есть дед. Он не обидит и в обиду не даст. Хотя бы тому же Федору. Федор хоть и брат Ули, да ведь сын Еремея.
Вечером Федор зашел за Татьяной и пригласил ее в кино. Билеты были уже куплены.
— Какая картина? — спросила Татьяна.
— Вернешься в самом отличном настроении.
— А вдруг не понравится?
— После сеанса сама скажешь, хорошее у тебя настроение или плохое. А теперь собирайся.
— Но ведь еще рано. Чуть ли не час до начала.
— Вот и хорошо, пойдем не спеша. А то все на рысях. На работу бегом, с работы бегом. Едим стоя, чай пьем — обжигаемся.
Они пришли в кино за пятнадцать минут до начала сеанса. В фойе уже было много народу. Федор прошелся с Татьяной по кругу и, сказав, что скоро вернется, исчез в толпе. В это время Татьяна увидела идущую прямо на нее Князеву. Спрятаться от нее было поздно, да и некуда. Неужели Верка позволит себе оскорбить ее, как в прессовой? Пусть будет что будет, но при первом же слове она ударит эту дрянь. И куда-то, как назло, запропастился Федор. Татьяна была полна страха и какой-то безумной решимости. И она растерялась, когда Князева, подойдя к ней, опустила глаза и произнесла смиренно и смущенно:
— Прости меня, Таня, я погорячилась. И больше этого никогда не будет.
Татьяна не знала, что она должна сделать: подать Князевой руку или с гордостью отвергнуть ее извинения. Она так ничего ей и не сказала, а когда осталась одна, невольно оглянулась: сзади стоял Федор. Улыбающийся и снисходительный.
— Довольна? — опросил он, слегка дернув плечом в сторону ушедшей Верки Князевой.
— Это ты заставил ее извиниться?
— Будь спокойна, и впредь она будет знать, как вести себя.
Федор был прав: Татьяна возвращалась домой в самом отличном настроении. Важно было не то, что Князева попросила прощения, и даже не то, что теперь она могла уже не бояться ее. Исчезло чувство беззащитности, укрепилась вера в Федора, в его силу, а следовательно, и в то, что она сделала правильный выбор. Что же из того, что она его не любит? Но он достоин любви. И, взяв его под руку, она весело спросила:
— А все-таки, как это было, Федя? Ты ее на улице встретил?
— Не все ли равно?
— Нет, ты должен мне все рассказать.
— Если тебе так хочется, могу, нехотя согласился Федор. — Видишь ли, у нас в Глинске есть еще такая публика, для которой работа работой, а жить в свое удовольствие она тоже не прочь.
— Всякий хочет жить, как ему кажется лучше.
— Ты меня не поняла. Есть девчонки, которые, чтобы погулять да весело провести время, шляются с парнями по всякого рода домишкам. Домишко как домишко, какая-нибудь старуха там живет или вдова, а они снимают на ночь у нее горницу и гуляют. И Верка из таких. Их целая компания. По паспорту работницы, а по поведению — гулящие девки. Понятно?
— Догадываюсь.
— К горторготделу это отношения не имеет, такими вещами милиция занимается, но кто знает торговые дела города, тот все дела города знает. Ну вот, я прямо ей и сказал, что, оскорбив тебя, она оскорбила меня, что если она не хочет суда пострашнее товарищеского, и не за оскорбление других, а за свое поведение, то чтобы цыц и ни гу-гу! В общем, можешь быть спокойна. Эта дрянь не посмеет даже слова тебе сказать. Все просто. А Улька чего бы достигла своим судом? Только опозорила бы тебя.
Однако на другой день Татьяна вдруг ощутила что-то унизительное в том, что Князева просила прощения, и в том, как Федор принудил ее к этому. И весь день ей было не по себе, как будто она совершила что-то постыдное, и теперь Князева, наверное, смеется над ней, презирает ее, словно словами извинения она подкупила ее пустое самолюбие и уязвленную девичью гордость. Неожиданно ей пришла мысль: а не обманывает ли ее Федор? Взял и выдумал всю эту компанию гулящих девчонок и то, что Верка его боится. А может быть, все проще? Горторготдел знает, в каком магазине и когда будет ходкий товар, пообещал Верке помочь достать материал или какие-нибудь модельные туфли, а она согласилась извиниться? Но в конце концов, ей нужно было одно — чтобы Князева отстала от нее. И Федор этого добился. Хорошо бы совсем уйти от всего этого, не видеть Князеву, не встречаться с теми, кто слышал безобразные ругательства, которыми ее осыпала Верка.
Но стать инспектором горторготдела Татьяна уже не могла. Все знали, что она невеста Федора. И она продолжала разъезжать на электрокаре, выстилая свой путь веселыми звонками, которые мало соответствовали ее душевному состоянию, хотя один местный поэт в стихотворении «Электрокарщица» утверждал: «Веселый звон твоих сигналов о радости мне говорил твоей».
Обычно Татьяна старалась так оборачиваться со своей тележкой, чтобы обеденный гудок заставал ее в формовочной. Она завтракала вместе с Улей, с ней гуляла в разбитом перед цехом сквере, и этой своей привычке она не изменила даже после того, как Федор сделался ее женихом, а Уля стала к ней относиться холоднее, чем прежде. Однако случилось так, что обеденный гудок застал Татьяну под погрузкой, и ей волей-неволей пришлось завтракать в заготовительном. Она прошла в цеховой буфет и увидела за столиком Белку. Завтрак Белки был не обилен — кусок хлеба с маслом и чай, и Татьяна развернула перед ней свой сверток с мясом, малосольными огурцами, огромным куском капустного пирога и еще какой-то снедью, которой ее обычно снабжала бабушка Лизавета в расчете, что все эти продовольственные запасы будут поглощаться вместе с Улей.
— Ешь, а то мне одной не справиться.
— Спасибо, — сказала Белка и отломила маленький кусочек пирога.
— Бери больше. — И тут только Татьяна заметила, что у ее новой знакомой заплаканные глаза, отвечает она как-то нехотя, через силу, думая о чем-то своем и очень грустном. — Слушай, тебя никто не обидел?