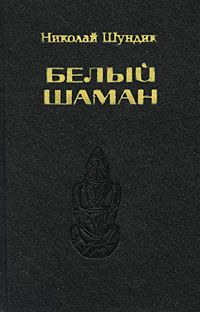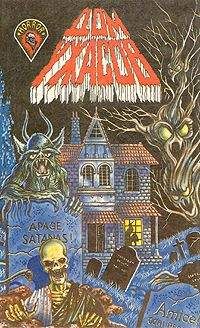Пойгин уехал из стойбища Майна-Воопки на собачьей упряжке вместе с Гатле. Ночной мир тундры был раскалён студёным мёртвым огнём луны. Казалось, что сам снег горел, плавясь и перекипая в зелёном мерцании лунного света, горел тихо, неугасаемо, горел в огне, излучающем стужу, вызывающем у всех живых существ тоску, которую могут выразить только волки, когда они поднимают морды и воют на луну, как бы умоляя её поскорее уступить место истинному светилу – солнцу.
Пойгин искал взглядом тёмно-синие тени, идущие от гор, чтобы не наблюдать лунный мёртвый огонь, излучающий стужу. Он любил смотреть на горы, на резкие тени от них, было в их густой синеве что-то от человеческих глаз, когда они наполняются грустью. С горами вместе хотелось смотреть в бесконечность мироздания, они не вызывали грусть, а помогали грустить, и потому живому существу было легче. К тому же сама синева гор и тени от них как бы спорили с лунным светом, гасили её мёртвый зелёный огонь и, кажется, смягчали стужу. Да, было приятно смотреть на незыблемые горы, постигая их высоту и устойчивость, смотреть на клинья густо-синих теней, радоваться, когда они удлинялись, и печалиться, когда укорачивались. Поднимаясь всё выше, луна словно торжествовала победу, отвоёвывая всё больше и больше пространства в свой подлунный мир, сжигая зелёным огнём тёмно-синие тени. И только дальние горы как бы уплывали из подлунного мира, сохраняя свой тёмно-синий цвет.
Гатле сидел позади Пойгина. В стойбище Майна-Воопки он приехал всего на двух собаках. Теперь они бежали в упряжке Пойгина, а нарта волочилась на привязи. О том, что Пойгин хотел сменить имя сына Майна-Воопки, он узнал от Кайти; приподняв чоургын своего полога, она поманила его к себе и тихо сказала:
– Сегодня последние сутки того срока, когда у мальчика должно появиться новое имя. Пойгин может опоздать. Его слишком далеко увела росомаха…
– Пойгин появится в яранге Майна-Воопки ровно тогда, когда следует, – возразил Гатле.
– Я не хочу, чтобы в споре с чёрным шаманом он был побеждённым. Омрыкай должен жить! Для этого ему как можно скорее надо сменить имя. Пойгин сказал, что даст ему имя орла. Да, так сказал Пойгин. И разве не жалко тебе мальчика?
Кайти была возбуждена. Последнее время она часто выходила из себя, порой бранила Гатле, кричала на собак, а хозяев яранги прожигала откровенно ненавидящим взглядом.
Гатле понимал, чем может обернуться для него поездка в стойбище Майна-Воопки, но он покорился Кайти. И вот теперь Пойгин упрекал его:
– Зачем ты её послушался? Эттыкай не простит тебе этого.
– Пусть не прощает! – вдруг воскликнул Гатле.
Было похоже, что Гатле обрадовался возможности возмутиться громко, ни от кого не таясь.
– Мне надоело быть рабом! – ещё громче закричал он. – Я всю жизнь раб. Я всю жизнь оглядываюсь и разговариваю шёпотом. Мне надоели женские одежды и эти косы! Дай нож, я их сейчас обрежу. Ты видишь, у меня нет даже собственного ножа, как положено мужчине.
Пойгин вдруг остановил собак, встал с нарты. Медленно поднялся и Гатле. По лицу его пробежала жалкая, просительная улыбка: казалось, что он уже готов был раскаяться за свою неожиданную даже для самого себя вспышку. Пойгин положил руки на его плечи, близко заглянул в лицо:
– Послушай ты, мужчина, что я тебе скажу. Гатле вдруг заплакал.
– Ты почему плачешь?
– Меня никто ещё не называл мужчиной.
– Но ты же мужчина!
– Да, да, я мужчина! – опять закричал Гатле и принялся рвать свои волосы.
Пойгин схватил его за руки, крепко сжал.
– Мужчина должен быть хладнокровным. А ты кричишь и рвёшь волосы, как женщина.
Гатле обмяк, сел на нарту, вытирая оголённой рукой слёзы. Пойгин присел перед ним на корточки, раскурил трубку.
– На, покури и успокойся. И слушай, что я скажу. Сейчас мы вернёмся в стойбище Майна-Воопки. Но войдём в ярангу Кукэну. Там тебе обрежем косы, пострижём, как мужчину. Кукэну даст тебе мужскую одежду. И ты вернёшься к Эттыкаю мужчиной! Понимаешь? Муж-чи-ной!
Гатле слушал Пойгина как бы во сне, страх на его лице сменялся решимостью и решимость снова страхом.
– Нет, – наконец простонал Гатле, – нет. Они убьют меня и тебя.
– Я много думал… убьют они меня или нет. Чем больше думал, тем глубже душа уходила в мрак уныния. Росомаха ужаса начинала идти по моему следу. Но знай, теперь я иду по её следу! Я перестал бояться смерти. Бесстрашие сделало меня неуязвимым. Мне кажется, что они давно убили бы меня, если бы росомаха шла за мной, а не я за ней. Они… они и есть росомахи. Да, они могут прыгнуть мне на спину и загрызть. Росомаха умеет затаиться у самой тропы своей жертвы. Но если росомаха и убьёт меня, то не так, как убила олениху Выльпы.
Пойгин помолчал с лицом, искажённым болью: память перенесла его на тот страшный кровавый след, оставленный обезумевшей от страха оленихой, за которой неумолимо гналась подлая росомаха. Многое можно простить голодному зверю, но не такое зло: гнаться за беременной оленихой, гнаться до тех пор, пока она не выкинет плод, – этого простить невозможно.
Пойгин какое-то время с ненавистью смотрел на луну, потом перевёл взгляд на Гатле и продолжил свои говорения, которыми был обуреваем ещё там, в яранге Майна-Воопки, именно говорения, а не просто обыкновенный разговор.
– Да, росомаха в лике главных людей тундры хотела бы загнать меня, как ту олениху. Загнать, чтобы я выкинул плод моей верности солнцу. И потом… потом при свете вот этого мёртвого светила, – ткнул тиуйгином, вырванным из-за пояса, в луну, – при её свете сожрать этот плод. Но что станет потом со мной? Я буду всё время дрожать от страха, я никому не смогу помочь. Так нет же, луна не увидит меня бегущим от росомахи. – Опять ткнул тиуйгином вверх. – Я, я буду гнаться за росомахой!.. Я долго стоял возле того окровавленного снега, где росомаха сожрала плод оленихи. Там моя ненависть и сострадание окончательно пересилили во мне страх. Я не боюсь главных людей тундры! Ты понял меня?
Гатле медленно заправил под ворот керкера косы, надел малахай.
– Я слушаю тебя сегодня второй раз, и ты кажешься мне каким-то иным, хотя ты тот же самый. Я знал, знал, что ты добрый, но я не знал, что ты умеешь изгонять из человека страх. После долгой паузы Гатле добавил:
– Я готов с тобой согласиться. Пусть, пусть я стану тем, кем родился, – мужчиной…
Пойгин без промедления повернул собак в обратную сторону, восклицая:
– Ого! Затмись самой чёрной тучей, луна! Не росомаха идёт по нашему следу, а мы преследуем её!
Пойгин дерзко рассмеялся, погоняя собак. А Гатле жалко улыбался за его спиной и с ужасом думал, что через мгновение-другое попросит повернуть упряжку в сторону стойбища Эттыкая.
– Э, ты зачем впадаешь в робость! Выгони думы бессилия прочь из головы! – весело ободрял Пойгин дрогнувшего Гатле, угадав его мысли. – Я не поверну в сторону стойбища Эттыкая!
– Может, всё-таки повернём? Он убьёт меня и тебя тоже…
– Я не хочу жить подобно зайцу! Пусть Эттыкай побудет в заячьей шкуре. Я знаю… я вижу, он уже начинает со страхом смотреть на меня.
– Но на меня он никогда не будет смотреть со страхом…
– Пусть смотрит с удивлением. Пусть изумится и почувствует и в тебе силу. Мы едем будить Кукэну! Пусть точит ножницы. Мы сейчас обрежем твои косы…
– Но он может испугаться. Он не позволит обрезать мне косы в своём очаге.
– Позволит! Я знаю его. Он поймёт, что так надо. Кукэну уже спал, но поднялся, едва заслышав голос Пойгина, разбудил жену:
– Вставай, старая, кипяти чай. У нас гости.
Прошло не так уж много времени, и в пологе появился горячий чайник. Старуха Екки с суровым лицом недоуменно смотрела на гостей, стараясь понять, что им надо. Несколько недоумевал и сам хозяин. И когда Пойгин всё объяснил, он сначала долго таращил глаза на Гатле, потом зашёлся в хохоте. Екки испуганно попятилась от Гатле, вскинула тёмные, узловатые руки, полузакрыла ими лицо. Начинала пробивать дрожь и самого Гатле. А Кукэну продолжал хохотать, подбадривая Гатле:
– Ты не трясись, если решил стать мужчиной! Не обращай внимания на мою старуху. И чего она так испугалась? Я думал, что Екки уже давно забыла, какая разница между мужчиной и женщиной. – Игриво бочком придвинулся к жене, толкнул плечом. – Неужели помнишь, старая? Сколько это мы детей с тобой нашли вот здесь. – Он ворохнул шкуру в углу полога. – Ах, хорошо было искать их во тьме. Ты красивая была у меня, Екки, и добрая. Особенно когда мы искали детей. Только найдём одного, через год уже другой отыскался…
Екки было замахнулась, чтобы огреть старика торбасом, подвешенным для просушки, однако опустила руку, заулыбалась, отчего лицо её как подменили, и можно было поверить, что она и вправду была когда-то красивой.
– Ну вот, всё вспомнила, моя Екки, повесь торбас на место. – Кукэну осторожно дотронулся до растрёпанной головы Гатле. – Не такие уж у тебя косы, чтобы жалеть их. Мужчина есть мужчина, и настоящих кос ему не надо. Зато дано кое-что другое. – Он шутливо шарахнулся от старухи, как бы предполагая, что она опять вознамерится чем-нибудь огреть его. – Я говорю, что мужчине надо иметь, к примеру, усы! А ты про что подумала, моя Екки? Подай ножницы, пусть Гатле станет мужчиной! Мы ещё до восхождения солнца женим его.