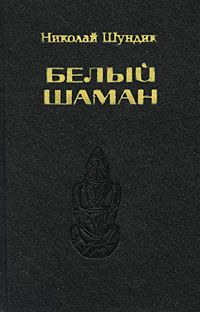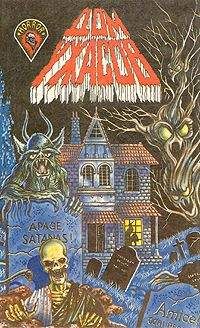– Я им скажу, что если это случится, – ты отомстишь за меня. И сам не прощу, если они вздумают сделать что-нибудь плохое с тобой.
– Передай им, что и я не прощу, – сказал Майна-Воопка, сузив вдруг вспыхнувшие гневом глаза. – Тем более что я знаю, кто стрелял по нашему стаду. В стойбище Рырки я осмотрел полозья нарты Аляека. Это его был след на горе. Он подкрался, как волк.
– Как росомаха, – поправил Пойгин.
– Передай им, что я, Майна-Воопка, никогда не давал себя в обиду и не дам впредь. И друзей своих тоже. И пусть Аляек готовит себе запасные штаны, я ему напомню, что означает его имя!
Кукэну опять зашёлся в хохоте, затем воинственно вскинул кулаки и воскликнул:
– Передай этим подлым людям, что я, Кукэну, найду их и под землёй, когда они провалятся к ивмэнтунам! И тогда самый страшный Ивмэнтун покажется им кротким кэюкаем в сравнении со мной!
Гатле решил остаться в стойбище Майна-Воопки.
Проводив Пойгина далеко за стойбище, он сказал ему на прощанье:
– Ты вернул мне то, что было дано мне от рождения. И знай, что я ничего не боюсь. Росомаха пятится от меня. А косы я разбросаю вот здесь, по тундре, пусть ветер уносит их. Будем считать, что женщина с именем Гатле умерла и заново родился мужчина. Возможно, ты поможешь сменить мне имя. Надеюсь, что это будет достойное имя.
Гатле вытащил из-за пазухи свои обрезанные косы и начал разбрасывать по снегу. Студёные белые струи позёмки подхватили их и понесли по снежной тундре. И было похоже, что волосы Гатле превратились в длинные, седые космы; нескончаемо тянулись они, извиваясь и уходя куда-то вдаль, в никуда. Гатле следил за их движением с горькой усмешкой и прощался со своим унизительным прошлым.
Выкурив на прощанье общую трубку, Пойгин и Гатле расстались. Гатле долго провожал взглядом удаляющуюся упряжку и плакал. Он знал, что теперь, когда стал мужчиной, ему нельзя плакать, но он не мог унять слез. Пусть это будут последние слёзы. Сейчас он успокоится и вернётся в стойбище и впервые за всю свою жизнь уйдёт с арканом в стадо – пасти оленей, как подобает мужчине, и больше никогда не будет разделывать заколотых оленей, варить мясо, кроить шкуры. Хватит! Он не женщина, он стал тем, кем явился в этот мир.
Целые сутки провёл Гатле в стаде. Его звали в стойбище поесть, поспать, просушить одежду, но он отказывался, предпочитая вживаться в своё новое положение пока среди оленей. На вторые сутки он решился пройтись по стойбищу. Он по-прежнему чувствовал себя очень неловко на людях, и всё-таки постепенно крепло в нём представление, будто он стал выше, а руки и ноги наливались ещё неведомой для него мужской силой; и даже голос, который он всю свою жизнь насиловал, становился естественным, и ему было боязно заговорить: выдержит ли горло эту непривычную силу и не оглохнут ли собственные уши? Измученное лицо его по-прежнему было беззащитным и затравленным, но чувствовалось, что вот-вот сквозь гримасу униженности, сквозь выражение безропотности прорвётся что-то жёсткое, упрямое, даже мстительное. Однако пока в нём больше всего было неуверенности и боязни, что кто-нибудь насмешкой, грубым окриком сделает его застарелую боль ещё мучительней.
Но не только это испытание предстояло выдержать Гатле: его повергали в смущение взгляды женщин. Ни одна из них, пока он был в женском обличье, не смотрела на него такими глазами. Казалось, ничего не изменилось – глаза как глаза, однако во взглядах некоторых молодых женщин, направленных на него, кроме любопытства, пряталась какая-то тайна. Раньше он улавливал во взглядах женщин только сочувствие, сострадание, иногда откровенную насмешку, а теперь всё переменилось, похоже, он стал чем-то для них притягательным. Хотелось смотреть и смотреть в их глаза – тайна манила, но он смущённо отворачивался и несмело шёл к мужчинам, весь превращаясь в слух и зрение: не слишком ли рано он счёл себя равным им, не выпустил ли кто из них насмешку, как невидимую стрелу из лука? Но самое трудное было для него заговорить с мужчинами: ведь он до сих пор разговаривал на женском языке. Страшно было по привычке оговориться, да и казалось почему-то стыдным говорить на мужском языке. И он молчал, а когда немыслимо было молчать – мычал, как немой, нелепо жестикулируя.
На пятые сутки жизни Гатле в облике мужчины в стойбище Майна-Воопки приехал на оленях Эттыкай. Он долго смотрел на Гатле, чинившего нарту, и наконец спросил при напряжённом молчании жителей стойбища:
– Может, это не Гатле?
– Да, это не тот Гатле, которого ты знал, – спокойно ответил Майна-Воопка.
Эттыкай какое-то время смотрел на Майна-Воопку, одолевая бешенство, и опять закружил вокруг Гатле, как лиса вокруг приманки.
– Оказывается, ты умеешь, как мужчина, держать в руках топор? Ты что сидишь? Боишься, чтобы не слетели штаны?
Как никогда чувствуя себя униженным, Гатле не смел поднять голову, по-прежнему сидел на снегу у нарты. И вдруг глянул снизу вверх в лицо Эттыкая.
– А разве я в твоём стойбище не работал и за женщину, и за мужчину?
– Но ты забыл, что я тебя ещё в детстве спас от голода!
– Лучше бы ты меня не спасал.
– Да, лучше бы я тебя не спасал. – Эттыкай дёрнул Гатле за ворот кухлянки. – Встань, когда я с тобой разговариваю!
Гатле не вставал.
– Встань, я тебе говорю! Надевай керкер и отправляйся домой.
– У меня кет керкера. Я сжёг его вместе со вшами,
– Как сжёг? – Эттыкай оглядел всех, кто наблюдал за его разговором с Гатле, словно надеясь на сочувствие, но всюду натыкался на откровенно насмешливые взгляды. – Чем ты меня благодаришь? Чем?! Не я ли тебя кормил?
Гатле медленно встал, страдая оттого, что Эттыкай видит его в мужской одежде, поднявшимся во весь рост.
– Это я тебя кормил. Костёр жёг, оленей свежевал, мясо варил. Вспомни, сколько ты сожрал мяса, сваренного мной…
Эттыкай словно подавился морозным, колючим воздухом:
– Ты… меня… кормил?!
– Да, я. Тебя все там кормят. Пастухи оленей пасут, женщины обшивают тебя и твою скверную Мумкыль…
– Мумкыль – скверная?!
– Да, да, скверная! – вдруг закричал Гатле выпрямляясь. – Я для неё был хуже собаки! И для тебя тоже…
– Ты у кого научился так разговаривать? Анкалин тебя научил? Пойгин?! Сегодня же выгоню его, как самого гнусного духа, из своего очага! Пусть, пусть едет туда! – Эттыкай указал в сторону моря. – Это оттуда идёт самая страшная скверна, какую я знал в жизни! Вы уже все заразились. Вас надо сжечь в ваших ярангах, чтобы не шла дальше зараза, как это бывает при больших чёрных болезнях!
Лицо Эттыкая заострилось, дрожащие губы посинели, на них пузырилась пена.
– Не укусил ли тебя бешеный волк? – спокойно покуривая трубку, спросил Майна-Воопка.
– Вы сами… сами здесь уже все бешеные волки. Даже Гатле, который был как тень, смеет мне возражать. – Подступился вплотную к Гатле лицом к лицу, будто собирался откусить ему нос. – Или тебе захотелось моих оленей?! Иди, иди, бери! Я слышал… уже отбирают оленей такие вот… в других местах… Вчера пастух, а сегодня хозяин. Все, все хотят быть хозяином. И ты хочешь, да? На, бери мой аркан! Бери! Ну, что ж ты не берёшь? Вы посмотрите на него! – Эттыкай вдруг расхохотался. – Посмотрите! Это же не человек, а собачья лапа в штанах! Мышиный помёт в мужской одежде!
Гатле покрутил головой, невыносимо страдая от унижения, и вдруг нагнулся, схватил топор. И с такой яростью замахнулся, что Эттыкай попятился.
– Я… я расколю твою голову, как мёрзлое дерьмо! я…
Дыхания у Гатле не хватило, и он, отбросив топор, потянулся обеими руками к своему горлу, зашёлся в кашле.
Эттыкай наблюдал, как разрывает кашель грудь Гатле, и постепенно приходил в себя.
– Дайте мне трубку…
Старик Кукэну засуетился, набивая трубку табаком, но тут же унял себя, подчёркнуто показывая, что он не так уж угодлив перед богатым чавчыв, как могло показаться поначалу.
Эттыкай жадно затянулся несколько раз и сказал, ни на кого не глядя:
– Забудьте, что я здесь говорил. Передайте Пойгину, если появится… я его уважаю и рад видеть его в моём очаге. Я сказал всё.
И, по-прежнему ни на кого не глядя, пошёл к своей упряжке, проклиная себя, что на этот раз не смог не дать волю гневу.
А Пойгин в это время блуждал в ущельях Анадырского хребта; он упорно шёл по следу той самой росомахи, которая загнала олениху и сожрала её плод. Да, он хорошо распознал след этой росомахи. Два когтя передней левой её лапы были сломаны, задняя правая лапа чуть волочилась, загребая снег. Была понятна Пойгину и её повадка запутывать свой след. К тому же Пойгин угадывал запах именно этой росомахи, который казался ему особенно отвратительным. Он видел вонючую уже несколько раз. Как у всякой росомахи, задние лапы её были длиннее передних, а башка несоразмерно огромна, словно прикрепили её к горбатому, с втянутыми боками туловищу, отняв у другого, более крупного зверя. Бурая шерсть у этой росомахи была особенно взлохмаченной, неопрятно топорщилась во все стороны. «Словно ивмэн-туны валяли её в грязи в своём подземелье», – неприязненно думал Пойгин о звере. Несколько раз он мог стрелять в росомаху без особого риска промахнуться, но что-то заставляло его подкрадываться к ней всё ближе. Росомаха была осторожна, вкрадчиво перебегала от скалы к скале, и Пойгин видел, как сильно она косолапит.